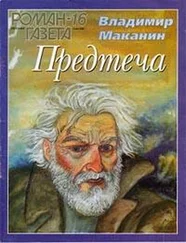— Не по-хорошему это, не по-мужски…
— Ну ладно, ладно, — сказал он.
Валя вытерла слезы; не умевшая долго обижаться, она заулыбалась. «Сокол мой», — и улыбалась.
Ночь была поздняя, но он, чтобы немного отвлечь себя и ее, рассказывал о прошлой своей командировке, о ссоре с приятелем, о лесном пожаре — это была целая история и даже с развязкой. Валя слушала, слушала… «Любишь меня?» — несколько неожиданно спросила она, едва он закончил рассказ. Он даже заикнулся. «Конечно». — «Я это сразу понимаю — чуткая я, верно?»
Утром, чтобы не увидели, он выпроводил ее в самую рань; было холодно, за окнами мело, вьюга, февраль — и какая-то волчья тьма.
— Еще троллейбус не работает, — слабо пыталась сопротивляться Валя. Она была заспанная; она была вялая, никакая.
— Работает, — шептал он. — Уже пять минут как работает.
* * *
Раздвоенность беспокоила — ведь у нее, в ее тихой комнатушке, он, Терехов, и искренен, и рад, и открыт, а едва она выходит с ним за порог, он в панике; и паника сильнее, чем он, и как же примирить со своим «я» новый этот опыт и новый урок, открывшийся ему там, где открывается нам все, или почти все. Терехов мучился, чувствуя, что истина проста и где-то совсем рядом.
Отношения тем временем шли к концу. Валя уже приставала с адресом, чтобы встретиться лет через пятнадцать.
— Оставил бы адресок — я бы, может, письмо тебе написала.
— Еще чего!
И тут же он, вскриком своим недовольный, стал оправдываться; и перед ней, конечно, и отчасти перед собой:
— …Приятели ко мне ходят, когда хотят, днюют и ночуют, если я в отъезде; придет письмо, а они народ бесцеремонный — вскроют в одну минуту. Еще и вырывать друг у друга станут, чтобы почитать.
Она сказала, впрочем, ненастойчиво:
— Ну и что?
— А ты уверена, что не наделаешь по две ошибки в слове?
Валя покраснела. Но покопалась в памяти. Подумала. И сказала:
— Читала я в книжке, что если любишь, то и ошибки в письме любишь…
— В книжке! — фыркнул он, уже нервничая. — В книжке мы что угодно любить готовы.
Она возмутилась. Впрочем, не сильно:
— Разве в книжках врут?
* * *
Еще штрих — он и Валя были в кино; фильм был дрянь, скакали на лошадях, стреляли, сбивали с ног негодяев, после чего опять поднимали их и довольно медленно ставили на ноги (лежачего не колотят) — чтобы опять сбить. Терехов смотрел с удовольствием и тем крепче прижимал плечико Вали — она сидела рядом и тоже принимала экран всерьез, но все же в паузу меж выстрелами, сумев отвлечься, шепнула: «Любишь меня?» И он стиснул ее плечико вновь и крепче. Потом шли в обнимку; они возвращались в темноте — через сумеречные проходные дворы, — и Терехов со сладостью думал, что возникнет же где-нибудь и когда-нибудь достойная его, Терехова, ситуация, и тогда он понятно и зримо вступится за Валю, защитит, распрямится. Покажет всем. И себе тоже.
И удивительно ему было, что чувство такое высек из его, тереховского, нутра дрянной фильм — фильм из самых пустейших, от которых в извилинах памяти остаются лишь расшитые сомбреро и немыслимой красоты кони.
* * *
Еще одно — как-то они лежали рядом, как обычно, и свет был вырублен, и тишина, и Терехов уже пустил в ход губы и руки, а Валя вдруг отстранила его, и он услышал нечто неожиданное: «Про любовь-то скажи».
— Что?
— Скажи, что любишь.
Он спохватился, даже и сердито:
— Да, да, люблю. Будто не знаешь.
Потом она ему еще как-то раз говорила об этом с определенной настойчивостью и даже с упрямством, напоминала, что ли.
Среди ночи три метеорита проносятся в разных направлениях, прочерчивая тьму. И рассыпаются. В итоге три судьбы. И как неменяющийся фон — пустынный берег полуострова, собирание водорослей и йодистый запах. Вязкий песок под ногами. И море.
Хорошо известна притча японца Абэ. Горожанин, обыкновенный, однажды заблудился в песках. Некое селение приютило его и задерживает у себя принудительно, его заставляют работать, как работают все они от мала до велика, — отгребать и отгребать песок, потому что пески заносят. Горожанин хочет бежать. Ему это не удается. Он страдает. Но вот… он уже не страдает и бежать не хочет. Оказывается, смысл жизни в отгребании песка.
И врезается в память пустынное место, где ютится малолюдное это селение. Тоже песок. Тоже оторванность. Человек хочет побыть один, как хотят воды и хотят хлеба. И вот — хватаешься обеими руками за возможность уехать хоть на день. Или шляешься по незнакомым улицам. Или ни с того ни с сего говоришь матери, или жене, или подруге, а она, конечно, удивляется: «Давай я схожу за картошкой». — «Сейчас?» — «Да. Да. Ты же сама хотела, чтобы я сходил. Давай же деньги». — «Деньги на месте». — «Ну дай же их мне. Скорее!..» И она, впав в молчание, смотрит на тебя, как смотрят на спятившего, а у тебя трясутся колени, и все нутро трясется, и рука, которой ты хватаешь рубли. Побыть одному. Побыть без.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу