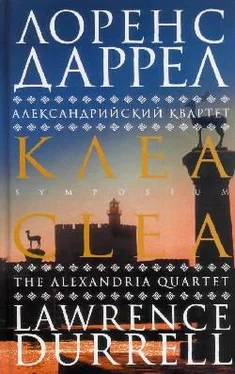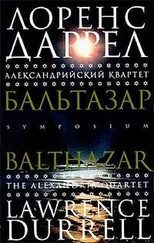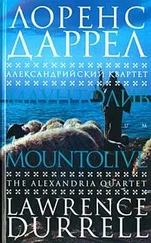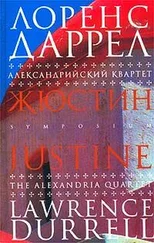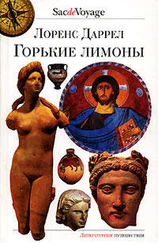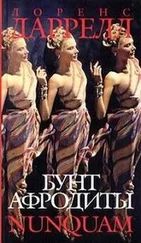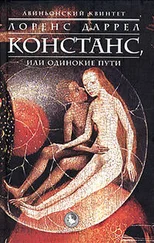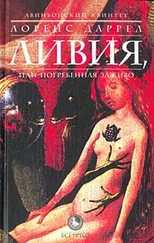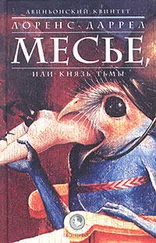Поначалу я был тронут, сочтя церемонию эту данью уважения к собственной персоне; но чуть погодя выяснилось, что уважения заслуживала в первую очередь моя страна, и я снова был тронут. Греция пала, англичане вместе с греками воевали против немцев — и этого было достаточно, чтобы при случае любой англичанин получил свою долю признательности, и скромные крестьяне из забытой Богом деревушки ни в чем не уступали всем прочим грекам. Тосты следовали один за другим и отдавались эхом от тихой черной ночи, расписными воздушными змеями взлетали к небу торжественные речи на пышном греческом, раскатистом и звучном. В них звучали каденции поэзии по-настоящему большой и сильной — поэзии часа отчаяния; хотя, конечно, то были слова, просто слова. Война родит их в изобилии, и сразу же после войны, затасканные с трибуны на трибуну, они снова станут помпезной высокопарной ветошью — и умрут.
Но в тот холодный вечер война зажигала этих стариков, как тонкие восковые свечи, одного за другим, и в них горело чистое пламя — благородно и ярко. За столом со стариками рядом не было молодых мужчин, чьи скользкие разбойничьи взгляды заставили бы стариков устыдиться и замолчать: они уехали в Албанию умирать в колючих тамошних снегах. Высокие, резкие голоса женщин, как будто б на грани невыплаканных слез, и между взрывами хохота, между песнями — внезапные долгие паузы, как отверстые могилы.
Она подкралась к острову по водам тихо, едва заметно, эта война; как будто облака заполнили понемногу горизонт из края в край. Однако до деревни она пока не докатилась. Одни только слухи — едкая неразбериха надежд и страхов. Сперва, казалось, она возвестила начало конца так называемого цивилизованного мира, но вскоре стало ясно, что и этой надежде сбыться не суждено. Нет, то был конец доброте, и чувству безопасности, и тихим трудам и дням; конец мечтам художника, безалаберной жизни и радости. А в прочем условия человеческого существования ничуть не изменились, только грани стали четче, ноты выше; кажимости стали прозрачней, и вроде бы кое-где сквозь них проступили некие смутные очертания истины, ибо смерть любой конфликт привыкла доводить до точки и только изредка, из жалости должно быть, кормит нас полуправдами, коими мы привыкли довольствоваться в нашей обыденной жизни.
Вот и все, что мы знали о ней покуда, о войне, неведомом этом драконе, чья пасть уже дышала где-то там, вдалеке, смрадом и пламенем. Все ли? Ну, если быть точным, раз или два небо над облаками набухало слитным гулом невидимых бомбардировщиков, но этот звук не заглушал более близкого, над самым ухом, гудения пчел: здесь у каждой семьи были пчелы, по несколько беленных известью ульев. Что еще? Один раз (вот это было уже куда реальней) в бухту зашла подлодка, выставила над водой перископ и нескончаемые пять минут разглядывала берег. Мы как раз купались на мысу — интересно, они нас заметили? Мы стали размахивать руками. У перископа рук, понятно, не было, и ответного знака мы не получили. Быть может, на северной стороне острова, на тамошних пляжах, она обнаружила еще какую-нибудь редкость — старого тюленя, разомлевшего на солнышке, как мусульманин на молитвенном коврике. Но это все опять-таки мало общего имело с войной.
Картинка, двухмерная прежде, стала обретать объем и плотность, когда той же ночью в чернильно-черную бухту суетливо скользнула посланная Нессимом маленькая каика; на борту были трое, угрюмого вида люди, и у каждого — автомат. Они не были греки, но по-гречески говорили свободно, раздражительно и чуть свысока. У них нашлось бы о чем рассказать — об армиях, попавших в окружение, о замерзших насмерть солдатах, — но в некотором смысле было уже поздно, вино затуманило старикам головы. Да и балагурами эти трое не были. Но они произвели на меня впечатление, эти пришельцы из неведомого мира под названием «война». Приятные люди за столом, хорошая еда, хорошее вино, эти же сидели как на иголках. На небритых скулах застыли желваки, словно бы мышцы свело от усталости. Курили они жадно, сладострастно выпуская струйки сизого дыма разом из носа и рта. Когда они зевали, зевок завязывался чуть не от самой мошонки. Мы предали себя в их руки не без опаски: то были первые недружелюбные лица за несколько проведенных здесь лет.
В полночь мы вышли из бухты по касательной к лунной дорожке — луна стояла высоко, и тьма у горизонта стала чуть мягче и не внушала тревоги. С белого пляжа по-над водой неслись нам вслед несвязные, едва различимые слова прощания. Нет, все-таки ни один язык не провожает и не встречает так, как греческий!
Читать дальше