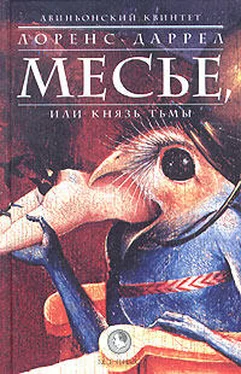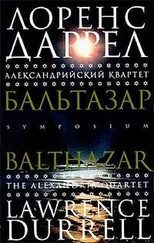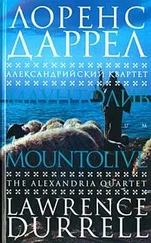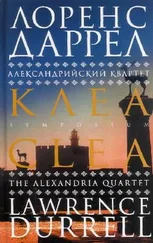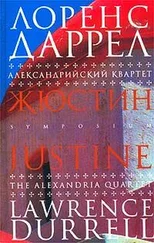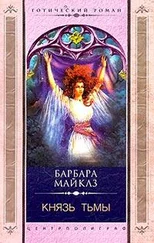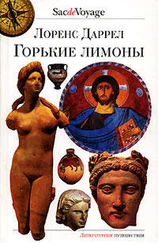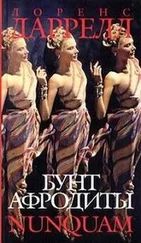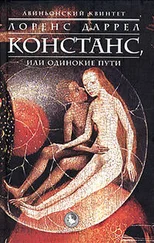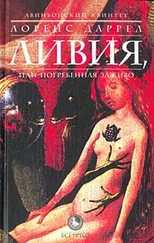Лоренс Даррел
МЕСЬЕ, или Князь Тьмы
Глава первая
«Outremer» [1] Outremer (фр.) — букв, «за морем», название палестинских владений ордена тамплиеров; своего рода девиз ордена.
С незапамятных времен мы ездили из Парижа на юг одним и тем же поездом — длинным медлительным поездом, вытягивавшимся вереницей голубоватых огней в сумеречной дали, словно гигантский светляк. В Прованс он обычно прибывал затемно, когда полосы лунного света делали все вокруг похожим на тигриную шкуру. Мне этого ни за что не забыть, да и ему тоже! Мне, то есть Брюсу, каким я был, и ему — Брюсу, каким я стал, изо дня в день записывая по несколько слов — совсем коротко. Поезд имел обыкновение вдруг останавливаться и надолго замирать, то ли неожиданно засыпая посреди пути, то ли на долгие часы погружаясь в раздумья. Это было похоже на омуты и водовороты памяти — когда твои думы испуганными головастиками начинали виться, например, вокруг слова «самоубийство». Наш поезд никогда не приходил вовремя, и никогда не придет.
Так размышлял одинокий пассажир, сидевший в хвостовом вагоне поезда, в освещенном купе третьего класса и не сводивший глаз со своего двойника в тусклом зеркале. В начале весны всегда одно и то же, говорил он себе — и в далекие школярские годы старой PLM [2] PLM — сокращение названия железнодорожной магистрали Париж — Лион — Средиземное море.
было так же. Когда, сопровождаемый гулким эхом, поезд отъезжал от Дижона, людей в нем почти не оставалось. Пассажир попытался вспомнить, сколько времени он не был в том городе, но из-за накатившей дремоты ему казалось, что на самом деле он никогда оттуда и не уезжал. Во всяком случае, какая-то часть его существа не покидала тенистые улочки и тихие неряшливые площади.
На сей раз возвращение было необычным, потому что бегство из северной зимы в нарождающуюся весну случилось по зову печальной телеграммы. Ужасно — в такое время года ехать по таким делам! На севере беспрерывные снежные бури почти парализовали железнодорожное движение, а здесь весна уже начала прогревать землю. Едва пересекаешь пояс тутовых рощ и углубляешься в зону рощ оливковых, как душой завладевает покой, ибо даже по-зимнему серый рассвет не в силах скрыть обилие золотых мандаринов, словно за окном — Греция и сады Эпикура. Пассажир не сводил невидящих глаз с мелькавших за окном пейзажей.
Этим пассажиром был я сам, Брюс, и ехал я не по своей воле. Из Праги меня вызвала лаконичная, как водится, телеграмма. В ней сообщалось о самоубийстве моего давнего и самого близкого друга Пьера де Ногаре; даже больше, чем друга, потому что сестра его, Сильвия, это моя жена, правда, подпись стояла не ее, а семейного нотариуса. Телеграмму доставили в Британское посольство, где я последние несколько лет служил врачом. «Брюс Дрексел, доктор медицины, к вашим услугам» — сейчас в этом появилась некая иллюзорность, вроде эха давней реальности, не потревоженной мстительным временем! От собственного пристального взгляда мужчине в зеркале было не по себе. Поезд же с грохотом мчался вперед.
Неплохо было бы привести в порядок мысли и чувства, как полагается литературному персонажу, но у пассажира ничего не получалось. Кстати, у Роба Сатклиффа в знаменитом романе про всех нас точно такое же начало. Непостижимым образом я словно копировал его главного героя, призванного к ложу умирающего (разница только в этой детали) друга, который собирается открыть ему нечто важное. Есть там и Сильвия, как всегда, в центре происходящего. Трогательно описано ее безумие. Конечно же, мы в романе несколько окарикатурены; но события переданы довольно точно, да и Верфельский старый шато тот же, где мы все это пережили в промежутке между двумя путешествиями. Теперь не только Сатклифф отождествляет себя с главным персонажем, но и Брюс, ну а о персонаже писатель однажды сказал: «В наше время реальность безнадежно вышла из моды, и нам, пишущим, приходится рассчитывать на искусство, чтобы ее оживить и осовременить».
Но тогда насколько реальные люди отличны от вымышленных персонажей? Умирая, человек становится частью прошлого; зато это приводит его друзей в чувство, во всяком случае, должно бы. Когда я читал роман, мне было интересно, как переплетаются реальность и фантазия. Теперь уже и Сатклифф стал прошлым, а его бумаги моя сестра Пиа привезла в верфельский архив, где несчастье совместной жизни, ожесточившее их, стало доступно биографам. Дело не в том, что Пиа оказалась скверной женой, ведь они до безрассудства любили друг друга; речь, по сути, идет о печальной истории перерождения отношений, которое опустошило Сатклиффа и лишило его запаса жизненной прочности. Такие, как Роб, слишком привязчивы и уязвимы, а потому их легко сломать. Попадись эти строки на глаза моей сестре, она бы заткнула уши и закричала:
Читать дальше