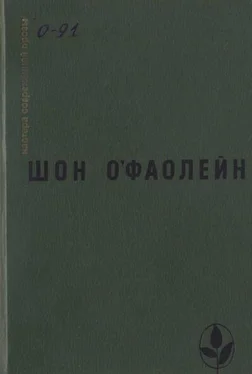И только после ее смерти, когда мы с ним вместе предавались хмельной скорби, он обнаружил, мне на удивленье, такие свойства, о которых она, вероятно, даже не подозревала, — ранимость, например, и душевный такт. Мне они открылись враз: однажды он задел меня, назвавши «журналистом», а я, чтоб не остаться в долгу, объявил его «мускулистым христианином» и на его сердитый вопрос, как это понимать, разъяснил, что приверженцы этого учения веруют в дикарские бицепсы и проповедуют дикарскую готовность к смерти, достойной гладиатора. Он с горестной лаской поглядел на меня И сказал мягко, но горделиво:
С какой же стати нам роптать
На общий гробовой удел?
Или совсем иная стать
У тех, кто прежде претерпел?
Когда б вставали в мертвый строй
Лишь гладиатор да герой!
Встречают дети свой конец,
И встретил Лесбиин птенец.
— Чьи это стихи? — спросил я, пораженный тем, что человек, которого моя покойная возлюбленная всю жизнь осмеивала, оказался совсем не так прост. Он слегка усмехнулся мне в лицо, и я подумал: неужели наша связь никогда не была для него тайной? Тон его стал небрежным:
— Ваша журналистская братия знала его под кличкой Бак Маллигэн. Всем остальным он был известен как Оливер Сент-Джон Гогарти, доктор медицины, действительный член Королевской корпорации хирургов, христианин и джентльмен, ученый муж и знаток тонких вин, врач, сенатор, легкоатлет, острослов и стихотворец. По-моему, он имел в виду Катулла. «Бедный птенчик погиб моей подружки./ Бедный птенчик, любовь моей подружки» [21] Из стихотворения Валерия Катулла «Плачь, Венера, и вы, Утехи, плачьте». Перевод Адриана Пиотровского.
. Passer deliciae meae puellae. Что, приторно? Да не без того.
— Вы читаете по-латыни? — уважительно осведомился я.
Секунду, не больше, он смаковал мое изумление, однако сыграть на нем и не подумал. (Ирландец непременно сыграл бы. Англичанин, вероятно, тоже. Но эти наши великолепные гибриды отмечены достоинствами обеих рас и почти лишены их недостатков.)
— Куда там. Просто у нас в Стоунихерсте был прекрасный латинист, и я его любил. Я и сейчас иногда по старой памяти прихватываю в походы томик античной классики. И ни разу не раскрываю.
Он продекламировал стихотворение красиво и смело, с высоты своих шести футов одного дюйма, широкоплечий, с орлиным носом, верхняя губа надвинута на нижнюю, как крышка на коробок, правый зрачок в белом кружке, как у дрозда, взгляд лихорадочный, как у одержимого. Почти шесть месяцев назад погиб его птенчик и мой птенчик.
Ему суждено было пережить ее ровно на три года. Он утонул в 1973-м, 8 ноября, в годовщину ее смерти, пустившись один в сумасбродное плавание к острову Мэн наперекор октябрьским штормам, почти семидесяти пяти лет от роду. В тот самый день, когда стало известно, что разбитый остов его яхты обнаружен на берегу неподалеку от Белфаста, я как раз поехал в яхт-клуб по приглашению нашего общего знакомого, опытного моряка. Кроме нас двоих в баре была только пожилая официантка. Море за окнами тяжело вздымалось. Луч маяка с восточного пирса уже скользил по гребням серых волн. Иссиня-черный сумрак заволакивал небеса. Вдалеке за бухтой зажигались огни Дублина.
— Даже с полным экипажем, — сказал мой приятель-яхтсмен, — и то самоубийственно выходить в море в такой шторм. — Он поднял стакан, как бы чествуя стихию возлиянием. — Но одному? В его возрасте? Это надо рассудок потерять.
Я кивнул: да, потерять — жену. Меня восхищала его верность своему неверному птенчику. Себя, обреченного на жизнь и утраты, я не винил. Если бы я тоже попытался покончить самоубийством, мне бы этого наверняка не позволили — то есть если бы я еще и хотел умереть; а я в этот миг посмотрел на часы, у меня было назначено свидание с ее величеством внебрачной дочерью Аны.
— Конечно, — со вздохом сказал он, — разгадка-то в том, что у них были нелады с женой.
— В самом деле?
— Чересчур уж лихо она крутила романы. Весь Дублин это знал.
— Вы думаете, и он тоже знал?
— Реджи ффренч был не дурак. Он все знал. И если бы не его дочь, ну эта, замужем за Лонгфилдом… Да нет! Он, несмотря ни на что, обожал свою вертихвостку жену. После ее смерти у него все стало валиться из рук. Вот он и подвел черту.
У меня кровь забила в ушах от ощущения вины. Намереваясь заказать еще два поминальных виски, я вдруг заметил, что размышляю, когда именно моя Ана решила подвести черту. И сообразил, что искушение подступало дважды: первый раз летом шестьдесят восьмого, когда она, ровесница века, изменила мне с Л. Л., а второй — особенно близко — перед самым Рождеством шестьдесят девятого, когда (я понял это лишь теперь, в баре яхт-клуба) она втайне от всех нас почувствовала зловещее недомогание в пояснице. Канцер.
Читать дальше