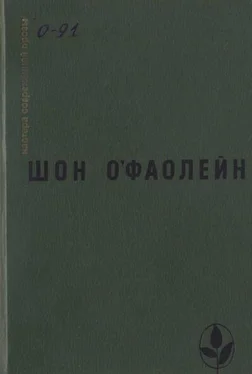— Первый раз ты встретился с Реджи в 1929-м, за два дня до Рождества и через пять лет и несколько месяцев после нашей встречи у фонтанов. Встретился ты с ним здесь в Дублине, у меня в ужасном доме на Фицуильям-сквер, который отец подарил нам на свадьбу по наущению Реджи. До этого я восемнадцать лет прожила в нашем скромном, буржуазном пригородном особняке в Кью-Гарденз. По сравнению с ним этот вычурный дом на площади был просто омерзителен. И фальшив. Расчетливая сентиментальность пополам с чванством — очень в духе Реджи. Наш брак и распался главным образом из-за этого дутого дома.
Я покосился на ее профиль над подушкой.
— Он же до сих пор твой муж.
— Номинально. Он говорил, что любит Фицуильям-сквер. Что она гармонирует с его профессией. Что она такая почтенная, благообразная, привычная, вся из восемнадцатого века. Что это внушает доверие. И утверждал, что зрелище добротности, солидности и прочного достатка поразительно ободряет беременных женщин. Словом, если дублинский гинеколог хочет преуспеть на своем поприще, то предел его мечтаний — медная табличка не где-нибудь, а только на Фицуильям-сквер. Ты хоть помнишь эту площадь?
— Одна из наиболее сохранившихся площадей Европы восемнадцатого столетия.
— Это на открытке. А вот побегай-ка по тамошним лестницам: лифта ведь нет. И центрального отопления нет. Гниль и труха. В уборную идешь, как в прорубь ныряешь. Кухни — сущие застенки. Включаешь свет — разбегаются тараканы. За десять лет у меня перебывало сотни две служанок. Наверху стужа, в цоколе сырость. Стало чуть получше, когда родилась Анадиона и поневоле пришлось обзавестись лифтом, центральным отоплением и внутренним телефоном. Денег ухлопали! Но я сказала Реджи, что иначе уйду от него; чего другого, а этого он, конечно, допустить не мог. Ему уже хватало, что он протестант во святой Ирландии. Особенно когда началось Святое Обновление. Очень мне было на руку это Святое Обновление. Пресвятая Матерь-Церковь дала мне полную власть над Реджи. Стоило мне только намекнуть на развод, и он белел от страха — ведь я могла отнять у него единственную радость, его драгоценную карьеру. Но, когда ты меня навестил, под Рождество двадцать девятого года, никакого лифта и отопления, конечно, еще не было. Не вспоминается?
— Не вспоминается.
— Мы уселись поближе к камину и пили горячий грог, чтобы согреться. Было около пяти часов. Я вдруг поднялась, отошла к высокому окну с теплым стаканом в озябшей руке и стала смотреть на сквер посреди площади. Одинокий уличный фонарь. Туман. Мне еле-еле видна была ограда сквера, деревьев не видать…
Если бы я тогда лучше ее знал, я бы улыбался в предвкушении. Гаснут огни. Под аплодисменты возникает дирижер. Поднимается дирижерская палочка. Увертюра. Занавес раздвигается. Старинная площадь в Дублине; гостиная на втором этаже фешенебельного дома. Время: 1929 год. Ана ффренч стоит у окна со стаканом в руке. Роберто сидит у камина. Она начинает свою знаменитую арию, Si ben mi ricordo [9] Если память мне не изменяет (итал.).
.
— Я подумала: «Будь мой брак кораблем, а он бы плыл на этом корабле, он услышал бы то же, что слышу я: дальний стон туманного горна и рокот волн, дробящихся о скалы». Это всегда было жутко вспоминать. А ты так-таки ничего не помнишь про Ниццу?
Роберто встает и подходит к ней. Начинается дуэт.
— Увы, не помню.
— Словно Ниццы и не было?
— А? Нет! Да. Погоди-ка. Что-то мне словно бы видится. Может, фотография? Зыблется, пропадает… Мне было показалось, что я мельком увидел тебя, мою милую, и гавань, и яхту, уплывающую в море, ночью, при луне…
Она протягивает руку, нежно касается моей щеки и грустно говорит:
— Давай оденемся. Надо выпить чего-нибудь. Ты мне лифчик не застегнешь? Я вижу, что должна кое с чем примириться. Примириться, что с того очень давнего дня, как мы впервые встретились у фонтана, ты обо мне теперь ничего не помнишь. Не помнишь ничего о моей жизни, о нашей жизни за сорок с лишним лет. Поразительно! Нам обоим надо чего-нибудь выпить. Пойду-ка я разожгу внизу камин. Лето летом, а мне что-то холодно, старею. Ну-ка, в темпе, как токката Галуппи.
Помнится, так, или примерно так, она говорила, поднимаясь с нашего брачного ложа. Мы оделись и сошли в нижний этаж. Я зажег камин; пока она раздувала огонь маленькими, старинными мехами, я, отпрянув от огня, выпрямился, и голова у меня так закружилась, что пришлось схватиться за каминную доску: я был впервые потрясен — то есть впервые на моей памяти — вопросом человеческих взаимоотношений, одним из тех, которые почти неразрешимы, а этот и вовсе ставил в тупик: «Соблазнительная, жизнерадостная, темпераментная женщина, что она столько лет находила в отразившемся в зеркале над камином старике, который сегодня опять стал ее любовником?» Время от времени я на разные лады задавался этим вопросом впоследствии, и не потому, твердо заверяю сам себя, не потому, что был принижен или подавлен ее зрелостью и привлекательностью, не оттого, что боялся стать безвольным пленником ее властного очарования, женственного изящества, слитого с пылкой чувственностью, природного юмора и артистичной грации. Вопрос этот я ставил только, и еще раз только, потому, что разрешение его могло высветить какие-то мои способности и свойства тех, канувших в беспамятство, времен. Теперь, после ее смерти, я знаю, что ответ забрезжит, лишь когда я с возрастом снова стану таким же юнцом, каким понравился ей во дни ее юности; когда я заодно помолодею и состарюсь настолько, что обрету память прошлого.
Читать дальше