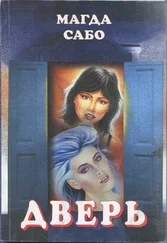В шепоте этом всплывали из далекого прошлого детские словечки Изы, ее сатиновый фартук, косички, юная фигура жены, ее первое вечернее платье из бледно-голубого шелка; смеющийся букетик незабудок в ее белокурых волосах, заколотых на затылке. Она видела судью плачущим, страдающим от позора, что его выгнали со службы, словно какого-нибудь злоумышленника; она улавливала в этом, шепоте, как жена однажды отругала его за это, и хотя попросила потом прощения, Винце до сих пор этого не забыл.
Многое рассказал в своем полузабытьи он и про Антала.
Он, можно сказать, высек, изваял его фигуру, отсек все лишнее, словно скульптор — любимый образ. Лидия сидела пораженная; значит, это так прекрасно — жить с ним под одной кровлей? «Почему он ушел от нее? — беспокойно шелестел шепот. — Такой славный парень и так ее любил. Почему он ушел, Этелка, ты не знаешь?»
Лидия могла сколько угодно ломать голову, почему, в самом деле, Антал ушел от Изы. В клинике этого никто не знал. Сиделки, работавшие здесь в то время, рассказывали, что Антала никогда нельзя было заподозрить в неверности и, судя по всему, он до конца жил с женой без ссор и размолвок. Про Изу всем тоже было известно, что с первого курса ее никто не интересовал, кроме Антала; коллеги знали подробности их общей борьбы за Дорож, удивительную энергию Изы, ее застенчивую улыбку, сиявшую только для мужа.
И вот теперь оказалось, Винце тоже не имеет понятия, что случилось между дочерью и зятем.
Ночью, когда судья неожиданно заговорил, Лидия наклонилась к нему. Днем старая дольше обычного сидела у мужа, после затянувшегося свидания больной заснул с трудом. Образ вторгшегося извне мира так отличался от больничного бытия, к которому Винце кое-как приспособился за много недель, что разум его, взбудораженный присутствием здорового посетителя, сопротивлялся теперь, не желая подчиняться телу.
— И где ж это — дома, дядя Сёч? — спросила сиделка.
Судья улыбнулся, кисть его слабой руки шевельнулась, словно он пытался махнуть рукой. Несколько дней уже он не двигался без посторонней помощи. Он ответил:
— Далеко. В провинции.
— Вы не здешний? Вы из провинции? — спросила Лидия.
В словаре провинциальных жителей тоже существует понятие «провинция», оно включает все, кроме столицы и города, где они живут. Провинция — это Казна, Дорож, Околач, Кушу…
— Из провинции, — ответил судья. — Из Дюда-на-Карикаше.
Лидия смотрела на него, широко раскрыв глаза. Она тоже родилась в Дюде-на-Карикаше.
Совпадение это сразу и тесно связало их; «Дюд-на-Карикаше» стало каким-то волшебным словом, которое соединило распиленное надвое кольцо. «Прекрасное место, — говорил судья. — Весной берега сперва красные, потом серно-желтые. Во сне я стоял на дамбе и не боялся реки. Вода шумела на мельничном колесе».
— Прежней дамбы там уже нет, — трясла головой Лидия. — Берег облицован камнем, новая дамба вся из бетона. На Карикаше провели регуляцию.
Это был тот странный период, когда судья неожиданно почувствовал себя легче. Период из трех, с медицинской точки зрения, абсолютно необъяснимых дней, когда Антал не мог ничего понять, Деккер лишь пожимал плечами, старая начала на что-то надеяться; Антал однажды ночью позвонил Изе. Лидия, проходя мимо его кабинета, слышала, как он говорил в трубку: «Отцу совсем хорошо, боли исчезли, просто ума не приложу, что это значит». Она бесшумно прошла мимо в своих мягких туфлях.
Они говорили и говорили, перебивая друг друга.
Лидия видела обелиск в память о жертвах того наводнения; обелиск был поставлен на площади Электропоселка, она помнила надпись на нем: «Погибшим от наводнения в Дюде», и еще в школе учила, какое ужасное бедствие обрушилось в 1887 году на деревню. Помнила она ивовую аллею, старую дамбу, которую охранял когда-то отец судьи, однажды летом она сама помогала ее разбирать: в излучине Карикаша, под маленькой гидроэлектростанцией, был построен бетонный коллектор; она видела, как исчезало все то, что хранил в своей памяти Винце: мельница, хаты с камышовыми крышами. Они вспоминали улицу за улицей, переулок за переулком, пастбище за пастбищем; Винце рассказывал Лидии о том Дюде, образ которого жил в нем, а сиделка — о новом, в кольце крупных госхозов, с Домом здоровья, с машинной станцией, с крестьянами, гоняющими по проселкам на мотоциклах. Иногда они с трудом понимали друг друга, потому что Лидия знала лишь новое, а судья — лишь старое название улицы, да и сам Дюд очень переменился; в таких случаях Лидия рисовала план, и чаще всего выяснялось, что они говорят об одном и том же. Но порой оказывалось, что в деревне появились улицы, которых прежде, в те годы, когда судья еще бывал там, не было и в помине. Винце пытался привстать на локте, лицо его, бледное, изможденное, обретало румянец. Говорили они и о мельнице, возле которой Лидия столько играла когда-то; мельницу ту снесли, на ее месте поставили электрическую. Лидия родилась возле старой, деревянной мельницы, и по утрам, просыпаясь, слышала шум воды, низвергающейся на колесо. Судья ничего не знал о новом облике Дюда: о регуляции Карикаша и о стройках в Дюде газеты писали летом пятьдесят третьего года, это был единственный год в жизни Винце, когда он по целым неделям не слушал радио и почти не читал: в то лето шел бракоразводный процесс Изы.
Читать дальше