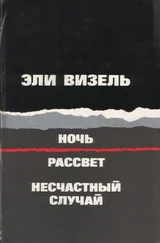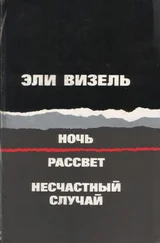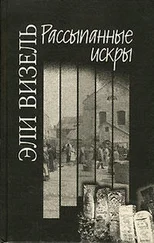— Тебе приснился кошмар, — сказал он.
— Со мной это бывает, — ответила она усталым голосом.
— Хочешь, я зажгу свет?
— Нет. В темноте мне лучше.
Тогда он рассказал ей свой сон. Она притворилась удивленной:
— Город, где все живут в мире?
— Такое возможно лишь во сне, — заметил он.
И он процитировал строчку поэта Паперникова, писавшего на идише:
«Во сне все прекраснее и лучше; во сне небо синее, чем сама синева».
— Да, — сказала она. — Во сне.
— И ты, ожидающая меня с начала времен. Мне понравился такой конец.
Она не ответила. Но через мгновение шепнула:
— А я видела во сне мужа и дочку…
Наступил рассвет, но им так и не удалось заснуть вновь.
Ева прекрасно ладила с соратниками Гамлиэля. Она сразу же прониклась их хлопотами за беженцев — до такой степени, что предложила свою помощь. Прежде всего финансовую, но не только: она была знакома со многими адвокатами, журналистами и, когда возникала нужда, знала, к кому обратиться.
Особенно ей понравился Диего. Бесстрашный маленький литовец-еврей-испанец развлекал ее гривуазными историями, воспоминаниями о войне в Испании, рассказами о своем анархистском прошлом и приключениях в Иностранном легионе.
— Ах, — восклицала она, — я бы многое отдала, чтобы увидеть все это своими глазами.
— В Испании, — подхватывал Диего, — ты бы воевала танцовщицей у нас, шпионкой у них. Но только там: в Легион женщин не допускают.
— Я бы переоделась мужчиной, — парировала Ева.
У Диего был своеобразный юмор. Хотя он старался не раскрывать рот слишком широко и не показывать зубы, сильно пострадавшие от франкистской полиции, смешливости его это не мешало: бывало, он хохотал до слез, даже когда яростно поносил фашистов и сталинистов.
— Порой, — признавался он, — я сам не мог понять, кого следует больше опасаться. Фашисты убивали своих врагов открыто, в уличных схватках, сталинисты казнили своих союзников тайно, в подвалах, стреляя в затылок. Вот умора, помереть со смеху.
Однажды он рассказал им историю Хуана:
— У меня был приятель Хуан, антифашист, как и я. Но выше меня ростом. Настоящий великан. Вообще-то мы оба были скорее анархистами. Что вы хотите, нам претила власть, какой бы она ни была, — нас от нее воротило. Своими учителями мы считали Нечаева и Бакунина. Мы перед ними преклонялись, нам хотелось жить и умирать, сражаться и любить на пределе. Угрюмых рож в своих рядах мы не терпели. Этого и не могли простить нам сталинские коммунисты, напрочь лишенные чувства юмора. Стоило лишь поглядеть на них: убийственно серьезные с утра до вечера, тупо и бездарно серьезные. Безмолвные, тоскливые, они испытывали отвращение к жизни — даже если пели и плясали, провозглашая вечную славу великой советской отчизне. Прямо не знаю, как они занимались любовью. Когда франкисты нас схватили, мы сумели сбежать в первую же ночь. Охранник услышал, как мы смеемся, и захотел узнать, что это на нас нашло. А мы сразу присмирели. Он подошел поближе и сам начал смеяться. И так хохотал, что уже ничего не замечал. Тут мы и набросились. Разоружили, связали, сунули в рот кляп. И все это смеясь. Но он уже не смеялся.
Ева поцеловала его в щеку.
— Браво, Диего! Мне опять захотелось быть там, больше, чем когда-либо. — Затем, став серьезной, она добавила: — Я спрашиваю себя, что бы я делала, но ответа не знаю.
— Зато я знаю, — объявил Диего. — Ты бы смеялась вместе с нами.
Ева повернулась к нему:
— А Хуан, что с ним стало?
Лицо Диего окаменело.
— Я не хочу говорить об этом, — сказал он сквозь зубы, хриплым голосом.
— Ну же, Диего, — не отступала Ева.
— Хуан, — сказал Диего.
И повторил: «Хуан». Потом произнес:
— Хуан умер.
— Когда?
— Не в тот раз, — ответил Диего. — Позже.
Взгляд Евы стал пронизывающим.
— Хуана пытали и убили, — сказал Диего свистящим шепотом. — Казнили. Не франкисты. С ним расправились наши тупые боевые товарищи. Коммунисты. По приказу из Москвы.
Ева взяла его за руку и долго не отпускала.
— Мне так больно за тебя, Диего.
Маленький испанец передернулся:
— Я же тебе говорил: помереть со смеху можно.
Ева проводила много времени в маленькой группе апатридов. Она находила атмосферу в ней живительной, а бывших беженцев считала интересными людьми, отвергающими низкие условности общественной жизни. Неисправимый шутник Яша потешал ее забавными историями о ГУЛАГе, а Болек, которого она знала давно, стал ее другом — с ним она делилась всем. С Яшей ее сближала также любовь к кошкам. Яшиного кота звали Миша: этот умный проворный зверек играл так, что казалось, будто у него с хозяином совершенно одинаковое чувство юмора. Нужно было видеть сияющее лицо Яши, когда Миша с урчанием вылизывал ему щеки.
Читать дальше