Все это я вспоминал, все разрозненные сценки, увиденные тогда в Бруклине, и одновременно пришло зловещее воспоминание о самой вершине этого ночного мира, о высотах его во всем блеске богатства, об изысканных, утонченных удовольствиях тех, кто вознесен на вершину, и об их холодном равнодушии к страданиям и несправедливости, на которых покоится это их благополучие. Все это вспомнилось мне теперь уже как единая цельная картина.
Так случилось, что в этом далеком краю, среди остро волнующих и тревожных обстоятельств чужой мне жизни, я впервые ощутил в полной мере, как больна Америка, и увидел также, что болезнь ее сродни немецкой — грозный недуг, поразивший душу человечества. Один из моих немецких друзей, Франц Хейлиг, позже сказал мне то же самое. Германии уже не поможешь: болезнь зашла слишком далеко, ее уже ничто не оборвет — разве только смерть, разрушение, гибель. Но в Америке, мне кажется, это еще не смертельно, не неизлечимо, — пока еще нет. Недуг ужасен, и он станет еще ужасней, если в Америке, как в Германии, людьми завладеет боязнь взглянуть в глаза самому страху, боязнь исследовать, что стоит за ним, что его порождает, боязнь сказать об этом правду. Америка молода, она все еще Новый Свет, надежда человечества, Америка не то, что эта старая истасканная Европа, в которой гнездятся и гноятся тысячи глубоко въевшихся, не устраненных древних болезней. Америка еще жизнеспособна, еще поддается лечению… если только… если только люди перестанут бояться правды. Ибо ясный и резкий свет правды — затемненный здесь, в Германии, до полного исчезновения, — вот единственное лекарство, которое может очистить и исцелить страждущую душу человеческую.
За такой вот ночью полного прозрения снова наступал день, прохладное румяное утро, — бронзово-золотые сосны, прозрачные пруды в раме зелени, волшебные сады и парки, — и, однако, все стало иным. Ибо теперь я знал, что есть в жизни еще и нечто другое, молодое, как утро, и древнее, как сама преисподняя, — извечное зло, проявившееся здесь, в Германии, в самой страшной своей форме и впервые облеченное в слова, выраженное системой фраз и обдуманных гнусных деяний. День за днем все это просачивалось и впитывалось, и вот уже во всем, в жизни каждого, с кем я встречался и соприкасался, я видел пагубные следы этой чудовищной скверны.
Так с глаз моих был снят еще один слой дымки, затуманивающей взор. И теперь я знал: все, что я увидел и понял, я уже никогда не забуду и никогда не поддамся обману.
Итак, я рассказал Вам (писал Джордж Лису) кое-что из того, что я пережил, и как это на мне отразилось. Вы спросите: а вы-то, Лисхол Эдвардс, тут при чем? Вот к этому я сейчас и подхожу.
Вначале я упомянул «жизненную философию», которую я придумал двадцать лет назад, когда учился в колледже. Я не сказал Вам, в чем она заключалась, потому что на самом деле, пожалуй, никакой такой философии у меня тогда не было. Вероятно, у меня нет ее и теперь. Но, по-моему, это интересно и важно, что в семнадцать лет я думал, будто она у меня есть, и что люди и по сей день толкуют о какой-то «жизненной философии», словно это нечто осязаемое, словно ее можно взять в руки, можно как-то направлять, взвесить, измерить. Совсем недавно меня попросили принять участие в книге под названием «Философия наших дней». Я пытался было что-то написать — и бросил, потому что не хотел, да и не готов был заявить, будто у меня есть какая-то сегодняшняя философия. А не хотел и не готов был не потому, что сомневался и путался в своих нынешних мыслях и верованиях, но потому, что путался и сомневался, как же их точно и окончательно сформулировать.
Вот в чем была беда почти всех нас двадцать лет назад в Пайн-Рок-колледже. У нас сложилась своя «концепция» Правды, Красоты, Любви, Истинности, — а тем самым определились представления о том, что означают все эти слова. И потом мы уже ничуть не сомневались в своих представлениях или не смели признаться, что сомневаемся. А это худо, ибо суть убеждения — недоверие, и суть истинности — сомнение в самой себе. Суть Времени в движении, а не в неподвижности. Суть веры — сознание, что все течет и все должно меняться. Растущий человек — человек живой, и его «философия» должна расти, должна меняться вместе с ним. Если же этого нет, значит, человек неустойчив, легковесен, игрушка моды, не так ли? Тот, кто слишком врос в сегодняшний день, завтра будет чувствовать себя неустойчиво, а его верования окажутся всего лишь навязчивыми идеями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)



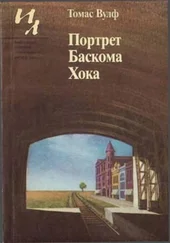
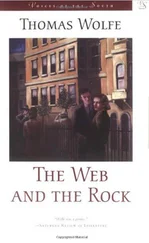

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [litres]](/books/436326/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-litres-thumb.webp)

