Разумеется, в этом пересказе я сильно все упростил. А в ту пору я лишь очень смутно представлял, что со мной происходит. Только теперь, оглядываясь назад, я вижу в истинном свете, как менялись в те годы мои представления. Ибо душа человеческая, увы, мутная заводь, в которой слишком много всего оседает и откладывается, в нее слишком много всего наносит время, она взбаламучена неведомыми течениями в глубинах и на поверхности, и где уж ей отразить отчетливый, ясный и вполне верный образ. Сперва надо подождать, пока воды успокоятся. И выходит, как бы ни хотелось, нельзя надеяться, что сбросишь изношенные одежды с души так же легко и бесповоротно, как змея сбрасывает старую кожу.
Ибо даже в ту пору, когда передо мной уже брезжил новый облик мира и я прозревал незнакомые его формы, я, однако, больше, чем когда-либо, погружен был в свои внутренние раздоры. То были годы самых больших сомнений и отчаяния за всю мою жизнь. Я увяз в сложностях своей второй книги и все, что схватывал взглядом, воспринимал лишь мимоходом, вспышками, урывками. Позднее мне предстояло убедиться, что этот новый облик мира запечатлелся на некоей чувствительной пленке моей души; но лишь тогда, когда я разделался со своей второй книгой, сбыл ее с рук, я увидел этот облик в целом и понял, что принесли мне испытания этих лет.
И, конечно же, все это время я по-прежнему был влюблен в ту прекрасную Медузу — Славу. Жажда славы была остатком прошлого. Я чуть не с детства мечтал о славе во всех ее пленительных обличьях — о призрачной, неуловимой, словно некий лесной дух, мелькающий среди дерев, — пока наконец образ славы и образ любимой не слились тысячи раз в нечто единое. Я всегда мечтал быть любимым и прославиться. Теперь я уже узнал любовь, но слава все еще от меня ускользала. И потому, когда я писал вторую книгу, я искал ее расположения.
И вот я впервые ее увидел. Я познакомился с мистером Ллойдом Мак-Харгом. Эта удивительная история должна была меня кое-чему научить. Да, пожалуй, и научила. Ибо в Ллойде Мак-Харге я узнал поистине значительного и честного человека, который стремился к славе и завоевал ее, и я увидел — то была пустая победа. О такой славе, как у него, я даже и не мечтал, и, однако, ясно было, что слава для него далеко не все. Ему требовалось что-то еще, чего он так и не нашел.
Я сказал, что это должно было бы стать для меня уроком. Но так ли это просто? Разве научишься чему-то на чужом опыте, пока сам не готов воспринять этот опыт? Можно распознать какую-то правду в чужой жизни и ясно ее понять, и, однако, вовсе не сумеешь применить ее к себе. Разве наше пресловутое ощущение своего «я» — поразительного, единственного в своем роде «я», другого такого не было от века и вовеки не будет, — разве это нежно любимое «я» не встает перед нашим критическим взором и не заявляет о своей исключительности? «Да, — думал я, — вот как обстоит дело с Ллойдом Мак-Харгом, но со мной будет иначе, потому что я это я». И так со мной было всегда. Никогда ничему не мог я научиться на чужом опыте, мне все давалось трудно. Через все я должен был пройти сам.
Так и со славой. В конце концов я должен был ею завладеть. Ведь она — женщина, и, как мне предстояло странным и неожиданным образом убедиться, из всех соперниц любви единственная, любимая и женщинами и любовью. И я завладел ею, насколько ею возможно завладеть, — и тут-то оказалось, что слава, как и любовь, это тоже еще не все.
К той поре меня уже обдуло всеми ветрами, хоть я еще толком не сознавал, какие струи просочились в меня и куда, по какому руслу устремилась моя жизнь. Я знал только, что совсем изнемог от работы, и, тяжело дыша, точно выбившийся из сил бегун, сознавал, что гонка окончена и я пришел к финишу, я все-таки победил. Только об этом я тогда и думал: во второй раз в жизни я прошел через испытание, и прошел с честью, одолел отчаяние, неверие в собственные силы, страх, что никогда больше не сумею завершить свой труд.
Я прошел полный круг, путь окончен. Я был опустошен, иссяк, измотался, на несколько месяцев жизнь моя остановилась, а измученная душа переводила дух. А потом я снова ощутил прилив сил, и на этой волне в душу мою вторгся внешний мир. Он вторгся, хлынул в меня неуемным потоком, и теперь я ощутил в нем и в собственном сердце что-то, мне прежде неведомое.
Чтобы отдохнуть, развлечься, забыться, я отправился в ту страну, что была мне милее всех чужеземных краев, в которых я раньше побывал. В годы отчаянного затворничества и работы над новой книгой я много раз вспоминал о той земле с острой тоской, так задыхающийся в тесной темнице узник тоскует о дорогих его сердцу лесах и лужайках чудесной сказочной страны. Сколько раз я возвращался в те края в мечтах — к потонувшему колоколу, к готическим городкам, к плеску фонтанов в полночный тихий час, к белотелым, загадочным и щедрым женщинам. И вот наконец настало утро, когда я прошел через Бранденбургские ворота, и вступил в зеленые волшебные аллеи Тиргартена, и увидел цветущие каштаны, и, подобно Тамерлану, почувствовал, как отрадно быть владыкой и шествовать с почетом через Персеполис — как отрадно быть знаменитым.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)



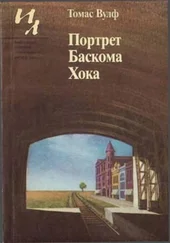
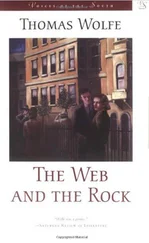

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [litres]](/books/436326/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-litres-thumb.webp)

