Илья Михайлович, сделав несколько попыток заговорить с дочерью, понял, что именно его она больше всех избегает и боится.
Дома перед ней постоянно были яркие свитера матери, изящные чёрные одежды тётки, и их голоса говорили всё время о женском мире, где всё направлено на то, чтобы нравиться, и слова их были то круглые и мягкие, то резкие, угловатые, как крики птиц.
«Они хотят, чтобы их непременно любили, восхищались ими, — думала Лена. — И мне так надо».
Поставив знак равенства между собой и другими женщинами, она успокаивалась на время, потому что ей помогало их знание жизни.
Но охотно Лена разговаривала только с младшей сестрой, даже искала причины, чтобы подольше быть с нею.
Ещё в больнице после операции, в ту ночь, когда боль была постоянным напоминанием того, что произошло с ней, она спрашивала себя с испугом:
«Но ты ведь хотела быть сильной, беспощадной, как все, чего же ты?»
Ответа она не могла найти, она не думала никогда раньше, что можно так просто стать убийцей ребёнка, жизнью которого ей кем-то поручено было распоряжаться. И оттого она с болезненным любопытством смотрела на сестру — тоже ещё ребёнка, и думала о ребёнке, который мог родиться.
И чувство, что она медленно переступает тот порог сознания, за которым начинается другое сознание, много горше и плотнее во времени, к которому тоже и обязательно надо было привыкать, уже не покидало её.
Родные всерьёз начали опасаться за её рассудок.
* * *
Вадим тянул с визитом в дом Лены. От Анны он знал, что Лена вернулась в каком-то странном, лихорадочном состоянии, о нем не спрашивает.
Лицо Лены, расплывающееся, как будто смазанное бледно-розовой краской, часто мысленно появлялось перед ним, вернее, он сам вызывал его в своём воображении, и был жесток, издевался над ней, расспрашивал, больно ли делать аборт и отчего все знают о том, что у них мог быть ребёнок, отчего она проболталась, дура…
Он знал, что подобные случаи все ребята и девчонки скрывают, и людям надо, чтобы всё это скрывалось. А такие, как Лена, не умеющие скрывать, становятся посмешищем или жертвами, скорбным примером для благополучных людей. Он же не хотел быть ни тем, ни другим.
Только попав в эту неловкую для себя ситуацию, Вадим почувствовал острее, чем когда-либо, свою принадлежность к обществу, он боялся осуждения Ильи Михайловича, окружающих его теперь людей. Когда он рассказал об этом случае на работе — конечно, как бы не о себе, — ему только посочувствовали, советовали заплатить девушке за пережитые страдания.
Когда он думал о том, что будет говорить с Леной, то представлял себе не маленькую детскую с попугайчиками и игрушками, а полутёмную столовую, когда горит только лампа торшера и тени ползут по стенам — и можно быть резким, насмешливым, настоящим мужчиной, чтобы она навсегда поняла, что между ними ничего не произошло, потому что их близость всегда была «публичной», без любви, тайны, и разом отторгнуть всё.
Но что-то удерживало его от такого поступка, мешало, и он тянул, как будто сначала надо было понять важное или вспомнить, и не получалось этого.
В минуты таких раздумий Вадим был неузнаваем — удивительно некрасив.
* * *
Казалось, Вадим начал страдать, и более всего не от того, что произошло с Леной, а от незнания, как поступить дальше, как вести себя. Страдание его напоминало потухающую страсть.
«Я не выхода ищу из ситуации, мне не надо искать…» — думал он.
По-видимому, он достиг того душевного предела, за который не смог перейти, и в то же время соблазн думать о возможности быть другим, добрым и великодушным, был велик.
Уверенный, что дело не в том, как он поступит, что скажет или подумает о нем Лена, а в мнении других людей, которые видят его жизнь, он считал единственным препятствием продолжения своей прежней, спокойной жизни участие множества людей в Лениной судьбе.
Решившись пригласить Грапского в свою маленькую комнату, снятую на верхнем этаже старого дома на Садово-Триумфальной улице, он преследовал одну цель: понять, какой он в восприятии других людей, догадаться, в какой степени допущен он в новое общество и как можно избежать опасности быть отторгнутым этим обществом.
Он устроил настоящий пир для Грапского, купил итальянский ликёр, сыр, пирожные, одолжил у квартирной хозяйки, тихой пьяницы, щербатые чашки с блюдцами, закатал и спрятал своё дешёвенькое белье и одеяло, а чтобы комната выглядела нарядной, набросил, где возможно, куски яркого шелка, купленного в немецком магазине. Пёстро-синий, клетчатый ало-жёлтый цвета сразу оттеснили на второй план блеклые краски городского заката.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
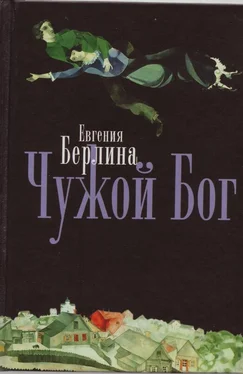



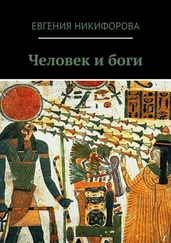


![Евгения Горская - Чужих не жалко [litres]](/books/431249/evgeniya-gorskaya-chuzhih-ne-zhalko-litres-thumb.webp)




