Дедушка Константин носил серый холщовый пиджак и такую же фуражку–шестиклинку с пуговкой на макушке. Он был копия киноартиста Николая Сергеева, игравшего роль старого рабочего Басманова в фильме «Большая семья». И когда дедушки уже не было в живых, а артист Сергеев, бывший примерно одного с ним возраста, все ещё играл в кино, я всякий раз, увидев его на экране, говорила своим младшим сёстрам, деда практически не запомнившим или даже не заставшим:
— Вот, вот, смотрите! Вылитый дед Костя!
Пока дед был жив, он неизменно дарил каждой из нас на день рождения «красненькую», то есть десять рублей. Первое время после его смерти бабушка Даша продолжала эту традицию, но вскоре перестала дарить нам денежку, потому что всю пенсию стала забирать у неё дочь Мира.
Мне было лет 10–11, когда дед умер. Известие об этом принёс папин шурин дядя Жора. Он приехал к нам на Дубинку трамваем, вошёл с улицы в кухню, где были в тот момент только я и папа, пришедший с ночной смены и как раз собиравшийся поесть и спать. Дядя Жора просто так никогда бы днём, один не приехал, это могло означать только что‑то чрезвычайное. И мне кажется, что папа, как только увидел его, все без слов понял.
— Отец умер, — сказал дядя Жора.
Папа бросил ложку, встал и пошёл вон из дома, даже не переоделся, ничего не взял, как сидел, так вскочил, заплакал и пошёл. Меня он словно не заметил в тот момент и ничего мне не сказал. Оставшись одна, я стала думать, как мне следует поступить. Для меня это была первая смерть в нашей семье, хотя смерти (вернее, похороны) чужих людей я видела уже не раз. Там, где мы жили, часто можно было услышать доносящиеся то с одной, то с другой соседней улицы звуки траурного оркестра. «Айда, похороны посмотрим!», — кричал кто‑нибудь из пацанов, и мы ватагой срывались с места и бежали «смотреть похороны». Вид мёртвого человека заключал в себе нечто таинственное и недоступное пока нашему пониманию, но это‑то и притягивало. А ещё мне почему‑то нравилась траурная музыка, непохожая ни на какие обычные звуки, торжественная и тревожная.
Но теперь хоронить будут не кого‑то чужого, неизвестного, а моего родного дедушку, и значит, вести себя надо как‑то совсем по–другому, но как? Вроде бы надо заплакать, но у меня никак не получается. То есть никаких чувств по поводу дедушкиной смерти я не испытываю. Тогда я зачем‑то переодеваюсь в школьную форму, нахожу талончик на трамвай, закрываю квартиру на ключ (до сих пор не понимаю, где находились в тот день все остальные члены нашей семьи), ключ кладу на дно рукомойника на улице, а к двери прикрепляю записку такого содержания: «Мама, ключ в рукомойнике. Я поехала к дедушке. Он умер».
За этот ключ, вернее, за записку мне потом, уже после похорон, здорово попало:
— Светка! – сказала мама. – Ну, ты у нас умная–умная, а дура! Кто ж так делает? Подходи, открывай, бери что хочешь, да?
Никто, конечно, не подошёл, не отрыл и ничего не взял за те несколько часов, пока никого не было дома. Кстати, на ключ наши двери закрывались только на ночь, а весь день были открыты настежь (в тёплое время года, разумеется).
Я ехала в трамвае очень долго. Днём трамвай пустой, можно сидеть у окна и смотреть на город. Всю дорогу я старалась выдавить из себя слезы, для чего представляла всякие страшные картины, мёртвого дедушку и душащую его «грудную жабу» (эти слова я слышала в разговорах взрослых, когда они обсуждали дедушкину болезнь), но слез всё равно не было. От остановки надо было пройти ещё три квартала пешком. Я не шла, а бежала, надеясь, что, может, запыхаюсь от бега и тогда смогу заплакать, но и это не получилось. И вот уже их тесный, закоулками двор и их дверь в самой глубине двора, у сараев, она открыта, только марлевая занавеска колышется. Я вхожу и не вижу ничего и никого, кроме папы, сидящего, согнувшись, на стуле прямо напротив двери. С разбегу бросаюсь я ему на шею, и громкие, взахлёб рыдания оглашают тишину маленькой комнаты. Я плачу долго, упоённо, измусоливаю папе все плечо и шею, а в дверях стоит соседка и говорит:
— Надо же, как внучка переживает, жалко дедушку.
На самом деле, если мне кого и жалко, так это папу. Наконец я решаюсь оторваться от его плеча и с опаской оглядываю комнату. Только теперь я вижу, что на столе накрытый простыней лежит мёртвый дедушка. Отсюда, с папиных колен, мне виден только задранный вверх нос и торчащие из‑под него пегие усы.
Всю ночь взрослые что‑то делали во дворе, готовясь к похоронам. Меня оставили ночевать и положили на высокую бабушкину кровать, которую я очень любила из‑за мягкой перины. Проснувшись ночью, я увидела в окне свет лампочки, специально по такому случаю подвешенной во дворе, и силуэты людей, в которых узнала папу, тётю Миру и бабушку Дашу, ходивших туда–сюда. Между окном и кроватью, на которой я лежала, утонув в перине, стоял стол, и на нём, по–прежнему не в гробу, а так лежал мёртвый дедушка Костя. На фоне окна чётко выделялся его нос с папиной горбинкой. До стола было рукой подать и, если бы я захотела, могла бы, не вставая, дотронуться до простыни, накрывавшей дедушку. Почему‑то мне совсем не было страшно, а может, наоборот, было так страшно, что я даже не могла этого как следует почувствовать.
Читать дальше


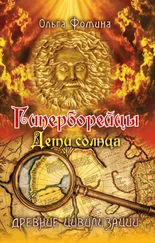


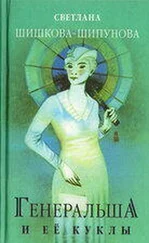


![Янина Волкова - Дети луны, дети солнца [litres]](/books/435980/yanina-volkova-deti-luny-deti-solnca-litres-thumb.webp)

