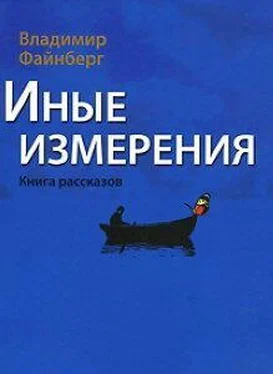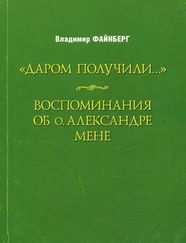Прошёл уже мимо первого переулка направо.
…И прохожий не пройдёт, и машина не проедет. Не у кого переспросить: а туда ли иду?
Улице нет конца. И переулков больше не видно. Ни направо, ни налево.
Вот ведь как бывает: чувствуешь, что не туда идёшь, и всё-таки продолжаешь переть по ложному пути.
Чахлые, с пережаренной солнцем листвой тополя у облупленных пятиэтажек. Ни детей, ни собак. Ни старушек на завалинках.
Как в дурном сне… Словно оказался не в Москве, не в моём родном городе. Вот уже, кажется, виден конец проклятой улицы.
Громадная мусорная свалка над переполненными мусорными баками, тянет вонью.
Чуть не до слез жалко себя. Стою в этом пекле, не в силах ни повернуть назад, ни пройти вперёд, узнать — что там, за этими Гималаями нечистот.
И тут я заметил какое-то движение.
Из-за баков вынырнула фигурка подростка, выкатывающего впереди себя железную тележку с картонной тарой.
— Эй! — крикнул я, направляясь навстречу. — Случайно не знаешь, где тут поблизости нотариальная контора?
Вопрос был заведомо глупый.
Фигурка замерла. И вдруг кинулась бежать, оставив тележку.
— Эй, остановись! В чём дело?
Абсурдность ситуации вконец обозлила меня. Я кинулся вслед и с неожиданной лёгкостью нагнал поскользнувшуюся на какой-то дряни фигурку. Схватил за ворот пропотевшей ковбойки, вздёрнул — и увидел перед собой глубокого старика, перепуганного, с трясущимися руками, с сочащимся кровоподтёком на виске.
— Извините, — пристал я к нему с тупостью, объяснимой разве что жарой и моим отчаянием. — Вы случайно не знаете, есть ли поблизости нотариальная контора? И что там, за этой мусорной свалкой?
— Не знаю. Там рельсы.
— Какие рельсы? Откуда рельсы? Там что, железная дорога?
— Не знаю. — Его прямо-таки трясло от страха. — Я два месяца в Москве. Ничего не знаю.
— Вы кто? Почему вы боитесь меня?
— Отпустите.
— Да я не держу вас. В чём дело? У вас на виске рана.
— Били в милиции. В «обезьяннике».
— За что?
— Вышел в город. Нет документов.
— Кто бил? Милиционеры?
— Нет. Говорю — в «обезьяннике». Сутки держали в железной клетке с ворами и наркоманами. Узнали — из Грозного. Чуть не убили.
— Так вы — чеченец?
— Русский. Василий Спиридонович.
— Василий Спиридонович, вам, наверное, нужно в больницу. На перевязку.
— Нет! Опять заберут. За меня взятку дали, чтоб выпустили. В милиции сказали: ещё попадёшься — убьют.
— Как же так? Сколько вам лет?
— Сорок два.
— Вам?! Сорок два?
— В Чечне всех убили. Жена. Четверо детей. Всех.
— Кто? Русские?
— Жену и старшего сына — боевики. Других — солдаты из России… Отпустите!
— Василий Спиридонович, может быть, поедем ко мне, пообедаем, обработаем рану? Кем вы были до этой войны?
— Учитель. Русский язык и литература. Так вы меня отпустите?
Забыв, зачем я здесь среди этого вонючего пекла, забыв обо всём, я стоял и смотрел, как он трусцой подбегает к своей тележке, суетливо подправляет сваливающиеся на сторону картонные ящики и скрывается от меня, как от проказы, за углом последней пятиэтажки.
Рослый молодой турок, которого привела Маша, сидел у меня дома, в московской кухне, пил кофе, рассказывал наперебой с Машей на чистейшем русском языке об их неожиданной затее. Я испытывал нарастающее чувство острой зависти.
Ещё бы! Этот парень был жителем Стамбула, его юность овевали ветры Средиземного и Чёрного морей, перед его глазами колыхались на мачтах флаги всех кораблей мира. Он вдыхал ароматы растущих на улицах и во дворах шелковиц, гранатовых и апельсиновых деревьев, пряные запахи гигантского крытого Куверт-базара, вмещающего под своими сумрачными сводами свыше ста торговых улочек и закоулков; слышал гортанные крики водоносов, призывное пение муэдзинов с высоких минаретов, удил барабульку и кефаль на берегу Босфора. А сзади в кофейнях и ресторанчиках набережной позвякивали кофейные чашечки, турки курили кальян, играли в нарды. Сквозь звуки музыки слышалась арабская, английская, немецкая, французская, испанская речь…
Мне довелось лишь недавно прикоснуться к этому неповторимому миру. Десять майских дней, выходя поутру из неприметного, основанного в 1892 году «Лондра отеля», с его сидящими в клетках попугаями, коллекцией допотопных радиоприёмников у стойки портье, я ощущал в груди трепет влюблённости.
Ни знаменитая Айя-София, ни Голубая мечеть не поразили меня так, как сам этот город на коричневых холмах с его вековыми деревьями, пристанями вдоль синей ленты Босфора, вздёрнутыми над сиренами лоцманских буксиров, гудками кораблей мостами, соединяющими Европу и Азию.
Читать дальше