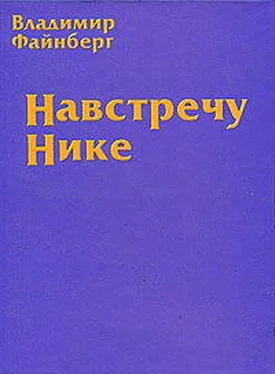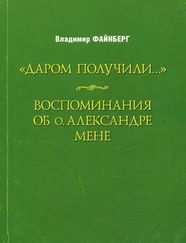— А как сложилась судьба твоего необыкновенного друга? – спросил Донато. – Он стал физиком? Вы иногда видитесь? Он жив?
— После того, как в сорок третьем году я с родителями вернулся в Москву, ничего о нём не слышал.
Донато замолк. А я с горечью думал о том, что за долгие годы черты моего первого друга почти сгладились в памяти. И это было странно, так как мордочку своего ослика, физиономию одноглазого учителя, даже широкую улыбку лётчика помню очень хорошо.
А ещё лучше помню всё, что происходило со мной много позже на этой реке, по фарватеру которой, обозначенному светящимися бакенами, двигалась махина нашего «Башкортостана».
Мы подмёрзли, собирались уйти в тепло каюты и лечь спать, как впервые заметили на берегу всё более различимое пламя большого костра. Наверное, это были всё–таки рыболовы. Когда мы проплывали напротив, я простосердечно помахал чёрным силуэтам людей, видневшимся на фоне пламени.
Чуть ли не в то же мгновенье Донато вскрикнул, схватился за лицо. Из–под пальцев его потекла кровь. Я нагнулся, поднял, видимо, выпущенный из рогатки камень.
Увёл Донато в каюту, осмотрел довольно глубокую ранку над левой бровью. Хотел поискать судового врача, аптечку. Но Донато не позволил этого сделать. Он промыл рану водой из умывальника, приложил к ней сложенную в несколько раз чистую бумажную салфетку. Мы вместе помолились и легли по своим койкам.
Попади камень ниже на полтора сантиметра, Донато мог остаться без глаза. А ведь по нынешним временам это могла быть и пуля…
Как ни странно, он скоро заснул. А я лежал и думал об этих людях у костра, о лошади–попрошайке, о мёртвой реке.
Марина на работе. А у нас сегодня есть важное задание: погулять, попутно зайти на почту, получить мою пенсию за июль и август. То мы были в Турции, то я со своим паспортом плавал по Волге. Поглядишь со стороны, шикарная, обеспеченная житуха.
Мы идём к выходу со двора на улицу. Ты, как помидор, в красном комбинезоне. В левой руке держишь пластиковое ведёрко с совком и грабельками, правой ухватилась за мою руку. Почта находится недалеко – наискосок от нашего дома, но для того, чтобы её достигнуть, нужно пересечь переполненную мчащимся автотранспортом улицу. Вообще говоря, это безобразие по отношению к тебе – брать с собой в такое опасное путешествие.
Кажется, совсем недавно, ещё весной, я катал тебя в коляске, опираясь на её ручку и на свою палку, дольше не уставала нога. Ты то сидела в ней, протягивала руки к пролетающим воробышкам, к первым листкам на ветках кустов, к ласковым лицам наклоняющихся к тебе прохожих женщин, то мирно спала под одеяльцем, а я сидел на скамеечке, охранял тебя, слушал старушечьи пересуды.
Теперь коляска отставлена навсегда. Ты бодро семенишь вперёд, так и норовя выдернуть руку из моей руки. Но это тебе, помидорчик, не пляж в Турции. Нужно вместе с прохожими дождаться зелёного света светофора – слава Богу, это я ещё вижу – оглядеться и успеть ринуться через мостовую под носом нетерпеливо фырчащих автомашин.
Обычно пенсию приносит домой почтальон. Каждый месяц шестого числа. Жалких этих денег нашему семейству хватает на три–четыре дня, от силы – на неделю. Хорошо, что Марина работает. Иначе ни о какой Турции, ни о каком море невозможно было бы и мечтать. Хоть у меня периодически и выходят книги, за которые я почти ничего не получаю. Каждый раз, когда почтальон – тщедушный молодой человек с погасшим взглядом приносит пенсию, мне стыдно брать её. Он, несомненно, беднее меня, и я откупаюсь от своей совести тем, что каждый раз оставляю в его руках некую толику, которую он молчаливо принимает. Видно, что он приходит, явно рассчитывая на эту толику…
Ты дергаешь меня за штанину, поднываешь: «Пойдём гулять!», пока я расписываюсь в ведомости, получаю из окошка деньги у очкастой девицы.
Теперь нам предстоит пересечь улицу в обратном направлении.
— Хочу конфету на палочке! Лимонную, – заявляешь ты у киоска на углу. – Мама всегда покупает. Или эскимо. Тоже на палочке. Ладно?
— Ладно, помидорчик.
Когда я был таким, как ты, я тоже любил мороженое. В те годы оно белело между двумя вафельными кружочками.
Пока мы благополучно перебегаем улицу, впервые осознаю, как Провидение благодаря двум порциям мороженого увело мою жизнь с неправильного пути.
В Ташкенте, весной сорок третьего года тот самый добрый человек Исаханов – начальник госпиталя однажды протянул маме местную газету. Там наряду со сводками с фронтов, сообщениями советского Информбюро, очерком о работе текстильного комбината, где трудился мой папа, под карикатурой на главарей гитлеровской Германии – Гитлера, Геббельса, Геринга, Гиммлера и кого–то ещё на ту же букву, изображенную в виде виселицы, было помещено короткое объявление:
Читать дальше