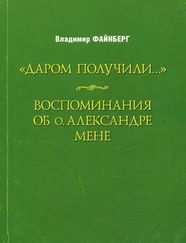Стол в кухне накрыт. На нём бутылка красного вина «Шамбертен», два бокала, три сорта мягкого сыра, омлет.
— Ирочка, вообще говоря, я хотел бы повести вас куда‑нибудь в ресторан. Осталось достаточно денег.
— Ваших грошей не хватит ни на один парижский ресторан. Се ля ви!
— Что ж, могу я, русский нищий, поднять тост за вас и вашу дочку?
— Не обижайтесь. Давайте договоримся — вы угощаете меня кофе и мороженым где‑нибудь в приличном кафе, хорошо? Вино нравится?
— Потрясающее. Даже лучше грузинских.
— А сыры?
— Ничего подобного не пробовал. Да ещё с таким нежным омлетом. Ангельская еда.
— Спасибо. Значит, чай–кофе пить здесь не будем? Поехали?
Ирина быстро составляет в раковину грязную посуду. Уходит в спальню. Возвращается в коричневом бархатном костюме, подкрашенная, заглядывает в комнату Жени.
Старый «Ситроен» мчит нас по ярко освещённым улицам, бульварам, мимо подсвеченных зданий фантастической красоты.
— Это Гранд Опера, — поясняет Ирина. — Пале Рояль… Хотите выйти, погулять под его арками?
— Я хочу кофе!
— Тут поблизости кафе «Ротонда», правда, дорогое.
— Ирочка, пожалуйста, курс на «Ротонду»!
— Почему вы так обрадовались? Обычное знаменитое кафе. Таких в Париже полно.
— Чем знаменитое, знаете?
— Все знают. Там, в «Ротонде», собирались когда‑то известные художники, писатели. Наверняка бывал и Хемингуэй. Он всюду бывал. Когда ездила на гастроли в Мадрид, видела на дверях одного бара объявление: «Здесь никогда не был и не пьянствовал Хемингуэй». Оригинально?
— Вполне.
Подъезжаем к расположенному в нижнем этаже углового старинного дома стеклянному, полукруглому кафе с полукруглым красным козырьком наверху, на котором стоят большие буквы «LA ROTONDA».
Внутри уютно, тепло. Полно публики. Мест нет.
Отыскиваем снаружи, под козырьком, свободный столик, усаживаемся на белые плетёные стулья. Подскакивает официант и через две минуты доставляет на вытянутой руке поднос с ореховым мороженным, украшенным шоколадной крошкой и ананасовыми ломтиками, двумя рюмками ликёра.
— Ирочка, признаюсь вам, я очень люблю одного человека. Он погиб в год моего рождения. Многим обязан ему. Я был знаком с его мамой, надолго пережившей своего гениального сына Владимира Маяковского. Он не раз заходил в это самое кафе, возможно, вместе с Татьяной Яковлевой — русской красавицей из семьи эмигрантов. О ней, о себе, о Париже, о последней надежде на счастье он написал очень грустные стихи. Обычно я не хожу по чужим следам, но в данном случае… Честно говоря, горло перехватывает. Прочесть?
— Никогда не слышала, не читала, — Ирина зябко запахивает, застёгивает пиджачок.
— «В поцелуе рук ли, губ ли, в дрожи ль тела, близких мне, алый цвет моих республик тоже должен пламенеть…» — Я произношу эти строки тихо, вполголоса, но люди за соседними столиками начинают прислушиваться. Все‑таки дочитываю длинные, удивительно чистые и не ханжеские стихи до конца. — Не хочешь? Оставайся и зимуй. И это оскорбление мы в общий счёт запишем. Я всё равно тебя когда‑нибудь возьму. Одну или вдвоём в Парижем.»
Не уверен, что люди за соседними столиками понимают по–русски. Но они примолкли. Ирина допивает ликёр, кофе.
Подзываю официанта, расплачиваюсь. И радуюсь — остаётся достаточно франков, чтобы завтра купить подарок для Жени.
…Ирина молча ведёт машину пустеющими проспектами и бульварами. Я благодарен ей за это молчание. Но, как уже бывало и не раз, слышу мысли Ирины, мысли другого человека: «Сорок четыре года… Три идиотских замужества… Этот Энрико–подлец, бросил нас с Женькой, спёр серьги. Бабушкины, икону… Заболею, что будет с Женей? Одилия — стерва, опять забыла принести девятьсот франков. Забыла, видите ли! Сорок четыре… А сколько Маяковскому было, когда застрелился?»
— Тридцать семь, Ирочка, — непроизвольно вырывается у меня.
Она вздрагивает, с ужасом смотрит, и мы едва не врезаемся в чугунную ограду бульвара.
— Спокойно, девочка, — говорю я, обнимая её за плечи. — Пусть у вас и была икона, вы не верите в Бога, не доверяете тому, как Он замыслил обустроить вашу жизнь. Из‑за этого разъедаете себя, мечетесь в разные стороны. У вас свобода воли. А Он — джентльмен. Никого не насилует. Насильно мил не будешь, знаете ли… На самом деле все у вас не так уж плохо. Я был бы счастлив, если б у меня был такой ребёнок.
Почти в самом конце бульвара, за которым видна играющая огнями площадь, Ирина останавливает машину у кромки тротуара.
Читать дальше