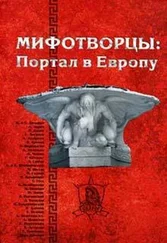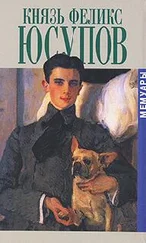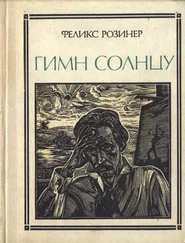Мать угасала, и забота Фриды облегчила, скрасила ее последние дни. И все мне думалось, какая горькая это и злая насмешка жизни: подвести совсем еще не старую женщину к краю могилы и тогда только подарить ей совсем немного счастья от тех благ, которые она, эта владычица-жизнь, неразборчиво швыряет пригоршнями кому попало. И стало-то в доме всего лишь свободней с деньгами; чуть больше уюта; и можно уже не вставать через силу; и голос живой щебечет над ухом что-то вовсе не важное, но так по-женски понятное: о том, какое сегодня видела платье, и сколько народу стояло за мясом, и что если вам надоела картошка, сделаю клецки по-вашему, как вы, тетя, научили, — только забыла я, сколько муки… И о будущем сына можно подумать без прежней тревоги: может быть, и не станет ему тяжелей, когда я умру, будет ухожен, накормлен, обстиран — но вот сам-то он как?.. И всякий раз, когда мне случалось говорить с Фридой, ловил я на себе внимательный печальный мамин взгляд…
Душной августовской ночью Фрида, плача навзрыд, разбудила меня. Мама ушла как ушла тишина в тишину… Не нужно было ничего делать, но Фрида пошла за врачами, и врачи неотложки приехали, чтобы наспех взглянуть, потрогать и что-то свое записать, а я все сидел перед мамой на стуле и рассказывал ей — рассказывал, может быть, то же, о чем пишу я сейчас, а может быть, и о чем-то другом, что пересказывать не умею, и видел себя лежащим будто бы рядом с мамой, и было не страшно, и не одиноко, и еще — чему я удивлялся — не холодно…
Потом Фрида придвинула стул, села рядом и принялась беспрерывно рыдать, и это так меня бесило, что я ее чуть не ударил.
В крематорий приехал весь дом. Простуженный орган и слабенький оркестр, без задержки сработавший лифт, сухое внизу потрескивание, и эта щеточка о железный противень: я по коробу скребен, по сусеку метен…
Хоронить на Преображенском не давали: то ли не было мест совсем, то ли впредь до распоряжения. Но странным образом повезло. К моим мольбам и уговорам в кладбищенской конторе прислушивался какой-то пожилой мужчина. Он подозвал меня и повел в глубь кладбища. По дороге спрашивал, кто моя умершая была, кем доводилась. У меня еще не отошло, и мужчина одобрительно заметил: «С душой ты — страдаешь… Это, парень, хорошо».
Подошли мы с ним к уже не новой, чистой и, как и бывает на русских погостах, уютной, покойной могилке с большим деревянным крестом. И спутник мой, глядя на могилу, торопливо перекрестился, смущенно хмыкнул и сказал:
— Неверующий я, а тут вот всегда как-то…
Он долго молчал, думал. Посматривал изучающе на меня, трогал тут и там крепкую оградку, наконец произнес:
— Урночка у тебя, товарищ?
И когда я ответил, что да, урночка, спросил:
— Нравится место, а ? То-то… Ладное место. И самому бы тут лежать. Да, знать, не придется. Сколько матери-то было?
— Пятьдесят всего, с небольшим.
— Ну и моей, почитай, столько же было. Жена у меня здесь, Царствие ей Небесное, — вдруг всхлипнул старик, опять торопясь перекрестился, махнул рукой и продолжительно высморкался в платок. — Вот что, парень. Уезжаю я к сыну, зовет он меня. Один я здесь, что мне? Один, как перст, и могилку оставить не на кого. Что ж, думаю, контору просить, чтоб ухаживали, дать кому денег? Так они ж, грабители…
Он грязно выругался, и меня покоробило, не по-кладбищенски это было…
— Годков еще десять, а то и пять, — и перекопают, это я точно знаю. Так хочешь ежели — перепишу на тебя? Упокоишь ты здеся маму свою, чай для урны-то много пространства не надо, — вот они пусть две бабы и вместе лежат. Как смотришь, сынок?
И до того мне щемило и нравилось так это место, и было настолько безудержно жаль старика, что обнял его я за плечи и сказал: «Спасибо, папаша, спасибо!».
Тот обрадованно засуетился, стал давать множество указаний, как, что и когда надо на могиле делать, потом сказал, что все мне в особой бумажке запишет, а пока надо б нам все оформить в конторе, а потом и выпить: «Уж я тебе поставлю», — пообещал он, но я заспорил, почему это ставить мне, а не ему, и договорились, в конце концов, что и выпивку и закуску берем пополам.
И когда уже было пошли от могилки, я вспомнил внезапно:
— Отец, а послушай-ка: жена-то твоя верила в Бога?
— Как же — не верила? Верила. Это я уж такой…
— Ну, а мать-то моя — еврейка.
В недоумении он стал, растерянно обернулся к могиле, словно бы обращаясь за помощью к покойной ли жене или к кресту. Но не было оттуда никакого ответа — знамения. Вздохнув, старик развел руками:
Читать дальше