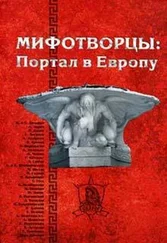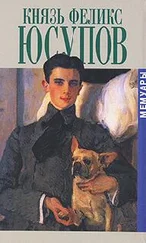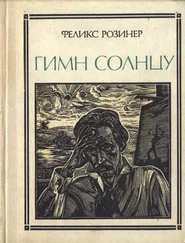— …а ее сестра Циля познакомилась на нашей свадьбе с Яшкой, с двоюродным братом родненького моего Менделя, я уж его никогда не увижу — ох, Боже мой! — так они женились через два месяца после нас, и, значит, Яшка твой дядя, и ты мне племянница! Арошенька, сыночек, познакомься со своей сестричкой Фридочкой, она приехала учиться в институте!
Удивительно, что ей удалось найти нас — людей, которых она никогда не видела. Фрида и тот самый Нонка Майзелис — бывший сосед по улице и однокашник в детдоме — в течение всех десяти лет чуть ли не каждый день повторяли вслух, чтобы не забыть, имена родственников и односельчан, записывали все, что осталось в памяти от довоенного детства. Они даже старались сохранить свою еврейскую речь, чтобы, как они думали, родных было легче найти, но язык забывался все больше и больше, и только иногда, втайне от других, употребляли они в разговорах друг с другом некоторые из запавших в память еврейских выражений.
По фамилиям, записанным с их слов, детский дом безуспешно пытался кого-нибудь разыскать. Однажды Фрида сама написала на свою родину, и из несуществующего уже местечка под Минском кто-то ответил, что все здешние евреи погибли, а он, этот человек — не еврей, он белорус; но многих из местечка знал, и вот помнится ему такая история, что дочь раввина вышла замуж против воли отца, и хотя времена были уже советские — лет за десять перед войной, молодые решили из местечка уехать. Говорили, что уехали они в Москву. Дочку раввина звали Голда, он эту семью хорошо знал. А у жениха один из родственников носил фамилию Финкельмайер — запомнилась она потому, что этот Финкельмайер, когда пришли немцы, был председателем сельсовета и его расстреляли в первый же день. Так вот, писал белорус, может быть, и жених тоже был Финкельмайер? Если эти люди в Москве живы, то они, наверно, знают больше него.
Фрида окончила десятилетку с отличием, получила золотую медаль, в детдоме ее снарядили, дали на дорогу денег. Учителя в один голос прочили свою воспитанницу в МГУ. Вот Фрида и явилась в Москву со спортивным чемоданчиком в руке — в нем были книжки — и рюкзачком за спиной. Всего час пришлось ждать ответа справочной: из окошка протянули квитанцию, на обороте которой были написаны наш адрес и номера трамваев, идущих в сторону Черкизова…
— А Нонка, дурачок, не верил, что я вас найду, — плакала она вечером и сквозь слезы улыбалась, — можно я ему напишу, чтобы приехал?
Этот Нонка, я думаю, рассудил трезво и в Москву не поехал. Он уже успел подать документы в какой-то Политехнический, кажется, в Томске, и потом сообщил, что благополучно принят.
В том углу, где была раньше бабушка, еще стояла ее кровать. Повесили наискосок занавеску, захватив и немного оконного света, и стала Фрида с нами жить. «До осени, как поступлю», — все повторяла она.
Первые вечера я то и дело замечал, как, едва скрывалась Фрида за свою занавеску, все там у нее — и кровать, и сама занавеска — начинало мелко-мелко дрожать. Я спрашивал: «Опять ревешь?» Она признавалась: «Реву, Ароша, прости, пожалуйста». Признавалась легко, потому что и слезы легкими были: плакала она от радости, от покоя и тишины, от обретенной свободы и еще от чего-то, что заставляет плакать полных здоровья семнадцатилетних девушек.
В университет она опоздала: прием медалистов давно закончился. Какой-то умник предложил ей оставить бумаги, чтобы потом сдавать экзамены на общих основаниях. Вместо того, чтобы, не теряя больше времени, пойти в другой вуз — в конце концов, говорил я ей, она вовсе не обязана точно следовать рекомендациям детдомовских учителей, — Фрида послушалась нелепого совета и все-таки подала в МГУ. Прельщало ее, видите ли, и высотное здание, от которого у нее дух захватывало, кружилась голова и приятно взыгрывало самолюбие…
Но за книги она ни разу не села. Ее крепкие, умелые руки, едва они коснулись наших запущенных хозяйственных дел, развили такую неудержимую деятельность, что чудилось, не две у нее руки, а шесть или восемь. В противоположность Шиве, который, насколько мне известно, только и мог своими руками красиво пошевеливать в танце, Фрида работала без устали — прибирала, готовила, штопала, стирала и вязала, и все-то ей удавалось, все-то она могла и все делала с заметным удовольствием. По дому бегала босиком, на улицу надевала какие-то несуразные стоптанные тапочки и неслась в магазины, в аптеку, в поликлинику. Купил ей паршивые босоножки — она на полдня онемела, поставила их на тумбочку у своей кровати и все забегала за занавесочку любоваться на них, а назавтра снова носилась по городу в тех же кошмарных тапочках. Соседи быстро признали ее за свою, женщины то и дело заходили к нам и, оглядывая удивительные перемены в нашей комнате, говорили: «Голда, эта Фрида — счастье тебе за все твои страдания!» Мать в ответ только тихо спрашивала: "Разве мне нужно счастье?" Женщины многозначительно кивали головами и так же многозначительно смотрели на меня, когда я сталкивался с ними на лестнице или во дворе.
Читать дальше