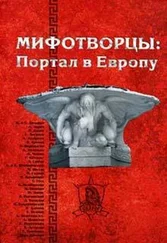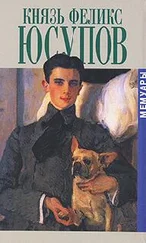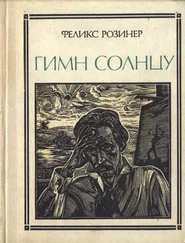Штурман гнал опель как мог, и уже на подъезде к Гатчине в них сбоку врезался грузовик.
Ольга не могла помнить, как это случилось, все произошло мгновенно, моряк, надо думать, и не успел увидеть машину, пересекающую их путь. Оля помнит только, что они смеялись, ей говорили, что ее возлюбленного так и нашли — со смеющимся, оскаленным ртом. В раздавленной машине ее бедра были зажаты между искореженной дверцей и телом моряка, принявшего на себя основную силу удара. Собственно, это и спасло ей жизнь, но не только это. В момент катастрофы у девушки была перебита какая-то крупная артерия, и Ольга должна была неминуемо погибнуть от потери крови еще до того, как подоспели бы врачи. Но оказалось, что все те сорок минут, пока бегали звонить по телефону и пока по шоссе из Гатчины неслась скорая помощь, рука мертвого жениха, вдавившись в ее тело, пережимала порванную артерию несколько выше зияющей раны. Когда их обоих стали освобождать от сомкнувшихся железных челюстей кузова, артерия забила фонтаном крови. Врач, к счастью, сумел ее остановить.
К счастью? По Олиным словам выходило, что вина погибшего штурмана в том и была, что он, мертвый, не дал ей умереть вместе с ним…
Старпома собирались привлечь к ответственности за передачу машины лицу, не имеющему права на ее вождение. Судно, лишившееся сразу и первого штурмана и старшего помощника, два дня не выпускали в рейс. Когда Ольга после первой операции пришла в сознание и узнала о случившемся, она, в противоположность показаниям старпома, заявила, что машина была взята без разрешения владельца —они ее вроде бы угнали. Версия эта следователя вполне устраивала, старпом прорвался к Ольге в больницу, поцеловал ей руки и сказал, что память о друге никогда не позволит ему забыть происшедшее и Ольга теперь для него дороже сестры родной. Он отправился на свое судно и снова появился в Ленинграде через пять месяцев. Ольга только начинала двигаться, волочить себя на костылях. В ужасном состоянии был и профессор Карев, без конца, как маньяк, твердивший, что не уберег дочь, не защитил ее, не вмешался вовремя и не прекратил любовную историю, которая, ясно было с самого начала, ни к чему хорошему не вела. Ольгу эти бесконечные стенания, старческие слезы и ставшая совершенно безумной любовь отца доводили до исступления. Глядя вперед, она видела, что обречена на тягостное, возможно многолетнее, существование рядом с человеком, к которому никаких чувств, кроме раздражения, не испытывала. Но они нуждались друг в друге, и Ольга не могла отделаться от жуткой мысли, что отец, не признаваясь в этом, возможно, и себе, в глубине души чувствует удовлетворение, а если не осознает его еще, то постепенно придет к умиротворенному спокойствию и даже к радости от того, что любимая дочь теперь не уйдет от него никуда, будет принадлежать ему одному до самой его смерти, что он не должен бояться того мига, когда придется жертвовать своей отцовской любовью ради кого-то еще… Ольга то и дело замечала, каким не только что нежным, но еще и самодовольным взглядом смотрел на нее отец, поднося ей лекарство или еду, выполняя ее малейшую прихоть, просьбу…
Для него отдать себя в рабы дочери было на старости лет лучшей судьбой — она же понимала, что собственная ее и без того страшная судьба тем самым тоже становится рабской…
Итак, сомнений не было: она навсегда останется инвалидом, и чем бы ни пришлось ей заняться, какой бы образ жизни она ни повела, ее всегда будут преследовать жалость и неловкость, которые она, калека, неизбежно вызывает у окружающих. Продолжать учебу? Вернуться в мир своих сверстников? Они здоровы и глупы — они не прошли ее школу страданий, они бегают по кино, потеют на спортплощадках, трясутся от волнения перед экзаменом, а после него отдаются друг другу, чтобы избавиться, наконец, от невинности, которая так давно им мешает!.. Все это не для нее. Ей приносили лекции — она из вежливости держала их два дня и возвращала нечитанными; девушка-комсорг, похожая на мопассановскую Пышку, с круглыми голубыми глазами, не умевшими прятать беспокойства, которое возникало в них при взгляде на Ольгины ноги, напоминала то о подвиге Николая Островского, то об Алексее Маресьеве. Однажды она сказала ненароком, что отказ принять помощь товарищей по университету срывает ей мероприятие, и группа не сможет выполнить взятое на себя комсомольское обязательство помогать больной. Ольга запустила в свою бывшую однокурсницу костылем и больше никого к себе не пускала. Единственным человеком, кто знал и в какой-то мере понимал, что творится у Оли на душе, был старпом. Его-то она и попросила помочь в осуществлении своего плана: уехать куда-нибудь в глушь, где никто ее не знает, где мало народу, где нет интеллигенции и отсутствует то, что зовется у нас «интересной жизнью». Поразмыслив, они пришли к выводу, что какой-нибудь небольшой военный поселок будет подходящим местом. Где-то в сухопутных войсках служил генерал, которого старпом и покойный штурман спасли во время эвакуации Севастополя в 1942 году, старпом его разыскал, написал письмо. Генерал вскоре ответил, что сделает все. Он и действительно, когда дело дошло до переезда, даже выслал в Ленинград своего ординарца с приказом сопровождать Ольгу и как о дитяти заботиться о ней в дороге. Отцу о своем отъезде она сообщила незадолго до отхода поезда. Старый марксист упал перед дочерью на колени, умоляя пощадить его, затем у него начался сердечный приступ. Он успокоился немного после того, как ему сказали, что за Ольгой сохранится ленинградская прописка и она в любой момент может вернуться домой. «Ты вернешься, Оленька, да? Конечно, ты вернешься, ты не сможешь там жить…» — бормотал старик, дрожащими руками подавая ей вещи, которые та укладывала в чемоданы… «Вернусь, папа, вернусь», — терпеливо отвечала она, зная, что не вернется к отцу ни за что на свете…
Читать дальше