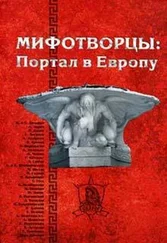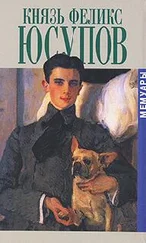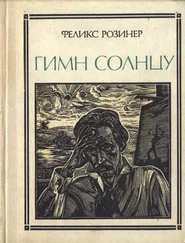На полу у ее ног, на круглой электрической плитке уже посапывал чайник, на тарелках один за другим появлялись отлично сделанные бутерброды, — предстояла совместная трапеза, что вызывало у обоих тщательно скрываемую неловкость. Ольга Андреевна поинтересовалась, до скольких часов я свободен.
— Хоть всю ночь, — ляпнул я ей в ответ. Опять, произнеся это, я понял, что сказал глупость и смешался. — То есть нет…
— Я вас надолго не задержу, — сухим, нарочито скрипучим голосом остановила она меня, и лицо ее замкнулось.
— Нет, нет! — с жаром бросился я оправдываться. — Я не то!.. Я вот что — у меня вольный режим, комната своя, вот я о чем, а не то, что обязательно на всю ночь!.. Я не хотел сказать, я хотел…
Тьфу! Городил я, путался, тошно было, каким кретином я выглядел… Однако что любопытно: чем больше чуши я плел, тем более менялось выражение лица Ольги Андреевны: каменная гримаса исчезала, появлялась чуть заметная улыбка — ироничная и одновременно самодовольная… Она торжествовала! Да, да! — ей становилось легче от того, что для кого-то стала причиной — она стала причиной! — смущения, кто-то рядом с ней испытывал боязнь непонимания, невозможность найти контакт с другим человеком — и потому отвращение к себе, желание провалиться сквозь землю, — такие знакомые ей чувства!..
И вдруг я сделал открытие: мы с ней будем дружить.
— А знаете, Ольга Андреевна, чай и бутерброды — это очень здорово, — отбросив прочь все, весело сказал я. — Я жутко голодный!
На мгновенье ее руки, занятые хлебом с маслом, замерли. По тому, как запрыгал блик на лезвии ножа, я увидел, что пальцы у нее вздрагивают. Потом я поднял взгляд — она улыбалась мне жалобно, в глазах стояли слезы.
— И я… тоже… жутко голодна… — произнесла она тихо и тихо же рассмеялась. — Вот и поедим.
— Поедим! — согласился я и предложил уже совсем смело: — Давайте, наливать буду я. А заварочка где? Вот она где, заварочка…
Спустя полчаса на плитке посвистывал уже второй чайник. Я сидел с расстегнутым воротничком, Ольга Андреевна спустила и уложила на коленях шаль, и теперь, глядя на нее, никто бы и не мог подумать, что у этой юной девушки есть какой-то физический недостаток: у нее был гибкий торс, красивая линия шеи и плеч, небольшая грудь — милое сочетание девичьего с мальчишеским. Болтали мы не переставая. Не помню как, почти с самого начала разговор скатился на школьные воспоминания — какие у кого были учителя, как над ними издевались у нас, в мужской школе, и у них, в женской. Я искренне удивлялся тому, что девочки в рассказанных ею историях оказывались не менее злы и жестоки, чем моя черкизовская шпана.
— Девочки вообще дуры и дрянь, — презрительно сказала она. — Я только с ребятами и водилась. А вы, небось, девчатником были?
— Я — девчатником?
Я расхохотался, потому что ничего более дикого нельзя было придумать.
— А что? — критически, очень по-женски, поглядела на меня Ольга Андреевна. — Вы девчонкам должны были нравиться.
— Ага, вы же сказали, что все они дуры.
— Ладно, будет меня на слове ловить. И довольно чаевничать. Займитесь-ка лучше ящиками. Надо их разгрузить.
С первым ящиком я долго не мог справиться: нечем было его открыть. Как выяснилось, ни топора, ни молотка, ни завалящей, хотя бы, стамески или отвертки в доме не водилось, нож, который я подсовывал под крепко сбитую из великолепных досок крышку, отчаянно гнулся и вот-вот грозил сломаться. Изодравшись в кровь, насажав себе с десяток заноз, я отправился на кухню и в поисках подходящего предмета обратил внимание на мусорный совок. Вогнал его под доску, пошатал вверх и вниз, — гвозди заскрежетали, и доска поддалась. Вышла из комнаты Ольга Андреевна.
— Первое, что вытащите, — подарю вам, — заявила она.
Похоже, я догадывался о содержимом ящиков и не ошибся; не ошиблась и моя рука, нащупавшая под слоем фланели пухлый, небольшого формата томик. Я не успел и рассмотреть его, как Ольга Андреевна уже сказала:
— Гейне. Полный академический. Черт вас возьми, вы везучий! Жалко отдавать.
Я замахал руками:
— Да не собираюсь я опять вас ловить на слове! — говорю. — И потом… Разве это все — ваше?
Она только усмехнулась.
И начал я разгружать ящик — вытаскиваю одну книгу за другой, открываю титул, заглядываю в первую страницу, в середину, листаю назад и читаю, читаю, читаю, вдруг чувствую, что все тело мое затекло, — оказывается, долго уже стою, замерев в неестественной позе. В коридорчике темновато, так я то и дело застреваю в дверях, обращая страницы к свету потолочной комнатной лампы. Где-то поодаль и Ольга Андреевна утыкалась в тот или в этот томик — все они были ей знакомы, она быстро узнавала их и бросалась, вероятно, к любимым, искала свои, ей известные строчки. Иногда я ловил на себе ее взгляд, сперва испытующий — с ревностью, настороженно посматривала она, как я держу, как их листаю, как вчитываюсь в ее книги — ее не по принадлежности, а ее по тому пережитому ею, что ложилось когда-то на эти страницы, когда она их читала и перечитывала, и что оставляло под переплетом печать куда как более значимую, чем факсимиле собственника — печать незабытого настроения, печать воспоминаний, печать отошедшего прошлого… но потом она стала смотреть с улыбкой грустной и снисходительной: я пришел в возбуждение, набрасывался на книги алчно, не положив просмотренной, брал и еще и еще, раз до меня донеслись какие-то невнятные звуки — не то хрипение, не то стон — оказалось, я же эти звуки издаю в восторге и муке блаженства, сравнимого лишь с любовным, — если поэт изливается в высшем экстазе — только поэту же и дано вместе с ним перечувствовать!..
Читать дальше