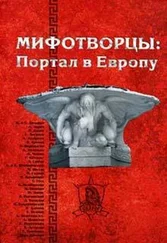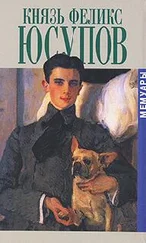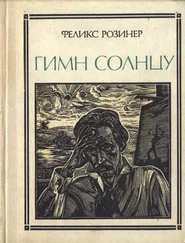Сколько пробыла на этой станции Данута, вспомнить она не могла. Может быть, двое или трое суток. Чтобы не привлечь внимания дежурных и милиции, она тащилась на несколько часов в город, там сидела на почте или в столовой и добиралась обратно на вокзал к очередному пассажирскому поезду. Она просила проводников посадить ее, но неизменно то с равнодушием, то с бранью ее отказывались взять в вагон. Да и куда бы она поехала? Здесь же на станции она и ночевала. «Ну пропадала, прям, а как же? — уверенно говорила Галочка. — Кому нужна-то? Хорошо, урки-то не нашли, а поехали бы за ней? На станции нашли бы и пришили». — А как же она все-таки выбралась? — «Так я ж говорю, Арон этот вывез!» — Откуда он там взялся? — «А я не знаю. Данька-то мало про него говорила. Говорит, — не помнит. Упала, вроде, где-то она? Ой, праад-праад! — упала, вспомнила! — в городе упала, а он, что ль, видел? Ну да, — ой, верно, вспомнила! — самолеты не ходили! Вот он ее на самолете и привез, вспомнила!» То есть, как получилось в конце концов из Галочкиной мозаики, самолет, на котором Арон летел от моря, должен был сесть из-за погоды, и Арон застрял в этом городе — там, где оказалась больная Данута. Она упала в беспамятстве, когда была на городском центральном пятачке, на котором, как обычно в провинции, и магазины, и милиция, и почта со сберкассой, и гостиница. Что уж смогла Данута объяснить Арону, представить трудно. Так или иначе, Арон устроил ее в своей гостиничной комнате. Возможно, что и звал врача, — во всяком случае, кормил больную таблетками, чем-то ее поил, — а при полной беспомощности Арона в житейских делах невозможно предположить, как он сумел самостоятельно разобраться в том, что нужно больной.
Взяв на себя роль спасителя, Арон исполнил ее до конца. Когда самолеты стали летать, он купил Дануте билет и перевез ее сюда, в Заалайск. — Почему сюда? — спросил Никольский у Галочки. — «А крайком-то один и тот же — где Данька с сестрой жила, и здесь. У нас поселенцев тоже прописывали раньше. А так бы где их прописали?» — И, значит, сестра сюда тоже приехала? — «Приехала?! — Уж приехала бы она! Ведь парализованная совсем, понимаешь? Он за ней и поехал — ну, самолетом же, поездов-то от нас же нету. И привез. А там — ужас-то! — урки своего зарезали, — ну этого, который проиграл — и ночью ногами в окна, в их дом, воткнули! Стекла, значит, его ногами проткнули, всунули внутрь до колен, а сам весь — утром люди смотрят — свисает на улицу, синий, в крови — по горлу ему ножом — вот ужас, а?! Хозяев тоже не было — испугались, в деревню уехали».
Милейшая картинка местной житейской хроники!.. И что Данута? — прежде чем разминуться с ножом того уголовника, — сколько она прожила в этой жути? Никольский содрогнулся от чудовищного: в его раскрытые глаза клубком вкатилась гориллоподобная свора, и она насильничала над Данутой с визгом и ревом, терзала, мяла, рвала и душила ее…
Весь в поту, Никольский выскочил из кровати, пометался из комнаты в комнату и, не придумав лучшего, оглушил себя стаканом отвратительной «Московской». Бросаясь обратно в постель, он задел бедро спящей, девчонка разом проснулась и с прежней голодною страстью сказала: «Хочешь сейчас еще, Леничка, хочешь!..» — «А ну-ка, пигалица, спи!» — прошипел он на это. Она, обиженная, отвернулась, и сон ее продолжился, как будто и не был прерван. Никольский же промаялся до солнца и лишь немного подремал беспокойно — все боялся, что Галочка, как в прошлый раз, уйдет, когда он будет спать. Но он ее не упустил и велел рассказать, где живет Данута.
Полдня он пробыл на «зеленом». Когда начался перерыв на обед, он вышел с завода в толпе рабочих. Люди растекались в обе стороны улицы — кто в столовую, кто в магазин, кто — из тех, у кого не работали жены, — домой, а многие, кучками и поодиночке, располагались в чахлом скверике напротив заводских ворот, вытаскивали свертки с бутербродами и ели с развернутых мятых газет. На земле, на пыльной выгоревшей травке играли уже в домино, послушной костяшкой стучали об старый замурзанный лист фанеры, и резкие хлопки ударов сопровождались то и дело, будто бы облаком порохового дыма при стрельбе, протяжной и лениво затихавшей матерщиной. Некоторые поснимали рубашки и жарились на нещадном солнце. Молодые подсаживались к девкам, любезничали. Трое парней гонялись вокруг кустов за увесистой, крупной красоткой, и она бегала от них с визгом, и у нее под линялой трикотажной майкой широкой волной колыхались толстые груди: хороших женских бюстгальтеров, как можно было понять, в городских магазинах не продавали…
Читать дальше