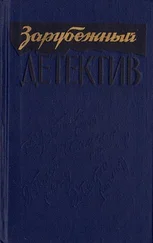В самой глубине души спрятано безумие, говорил он, и в этот колодец лучше далеко не заглядывать. У него самого была только одна страсть — наука, но она поглощала его целиком. Музыка лишала его покоя. Виолончель — громоздкий инструмент и занимает много места. Пока он был в своем Институте , она сидела с виолончелью между колен и играла. Он приходил домой, раскладывал бумаги на обеденном столе и погружался в формулы. Ничего не видел и не слышал. Эти родители, они жили каждый в своем мире. Ей хотелось, чтобы он ее выслушал, а он засыпал. Они спорили о том, что такое тон. Частота волны, говорил отец. Нечто, заставляющее душу вибрировать, говорила мать, и разговор начинал идти на повышенных тонах. Она могла играть часами. В это время она обо всем забывала. Хуже было, когда она, внезапно очнувшись от музыки, обнаруживала себя совсем не там, где ей хотелось быть. Тогда она раздражалась. Ее лицо: замкнутое и мрачное. Отец был другой. Он был попросту рассеян. Он накрывал на всех завтрак. Готовил обед. Тогда из-за стены доносился ее плач, тихий, как дождик. Они знали, отчего она плачет: она чувствует себя неудачницей. Но и смеялась она часто, особенно в Америке, это не забыть. Ее смех заражал и других, особенно отца, и они хохотали как сумасшедшие. Неважно, над чем, лишь бы смеяться вместе. По ее мнению, дочери не были музыкальны, по крайней мере старшая, это ее удручало. И правда, старшая дочь не любила виолончель. Боялась ее. Но однажды, когда она несколько дней не ходила в школу из-за болезни, произошел случай, запавший ей в память. Она лежала с высокой температурой и слушала виолночель, иногда у нее кружилась голова. Вдруг она поняла, что виолончель звучит не как обычно. Сначала звук плыл тихий, как шепот. Постепенно нарастал. Разливался в большой синий поток. И тут же набегали быстрые нотки, спеша, метались вверх и вниз по ступенькам, в беспорядке прыгали вокруг и волновали ее. Незаметно виолончель возвращалась к прежнему синему тону. Он не исчез, как она было подумала. Он жил все это время, как подводное течение под бурлящими непослушными протоками. Она решила, что мама играла специально для нее, для одной, потому что она болела. Ее кровать стала лодкой, скользящей по голубой реке. Она различала берега, где чередовались леса и горы. Она плыла и парила. Но вот поток стал смиряться, сузился в ручеек, и музыка закончилась всхлипом. Она продолжала прислушиваться, но было тихо. Как красиво ты играла, сказала она матери, вошедшей в комнату. Бах, сказала она, как взрослой. Иоганн Себастьян Бах. Он самый великий. Поиграй мне еще, попросила она. Глаза матери увлажнились. Девочка моя, сказала она. Она знала, что порадовала мать, она так и хотела. Она всю жизнь хотела ее порадовать. В США было хорошо, в длинном зеленом доме, похожем на барак, с множеством деревянных ступенек, ведущих к таким же квартиркам, как и их. Вокруг стояли такие же бараки, это было жилье для ученых со всего мира, приезжавших с семьями. У матери появились друзья, люди тянулись к ней. Многие хотели познакомиться с рослой темноволосой шведкой. Слушали, как она играет. Звуки виолончели проникали через стены и щели. Люди говорили, что им нравится ее игра и что она талантлива. Среди тех, кто приходил в гости, были профессор Зелински из Польши, он брал с собой скрипку, и фру ван дер Вельде, жена квантового физика, игравшая до войны на альте в Венской опере. По вечерам, когда смеркалось, они сидели в большой комнате вокруг пюпитра. Иногда они прерывались и начинали смеяться. Профессор Зелински стучал смычком по пюпитру, и они начинали заново. Играли Баха, Шумана, Шуберта. Мамино лицо было красивым, взгляд обращен внутрь, вглубь себя. Слушая других, мама одной рукой держала виолончель за гриф, другую со смычком опускала на колени, закрывала глаза, и ее тело и виолончель становились одним целым. И вдруг она открывала глаза, поднимала руку со смычком и приготавливалась. Резко кивала, в нужную долю секунды присоединялась к остальным, и теперь выражение ее лица было странным, отрешенным и почти пугающим — она совершенно сливалась с музыкой.
Возвращался с работы отец, шел на кухню, клал на стол портфель, открывал большой холодильник и подмигивал дочерям: они все пиликают и пиликают, а какой толк? Но такие воспоминания не вызывали грусти. Еще вспоминался маленький индиец, приходивший к отцу. Когда профессор Минакшисундарам о чем-нибудь напряженно думал, он подтягивал ноги и садился в кресле на корточках. Когда он думал особенно напряженно, он брал солонку и лизал ее длинным красным языком. Тайком мы с сестрой смеялись над ним. Один из крупнейших математиков нашего времени, говорил отец. За стенкой жила чета Чжоу. Он был математиком из Китая, она — еврейкой из Германии. На предплечье у нее синел номер телефона. Так мы узнали, что существовали концентрационные лагеря, что немцы жгли евреев. Дети свободно выбегали из зеленых домов поиграть. Все друг друга знали. Летними вечерами они сидели с сестрами Чжоу под деревом и смотрели, как искры от костра танцуют в темноте. Все было так, как и должно быть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу