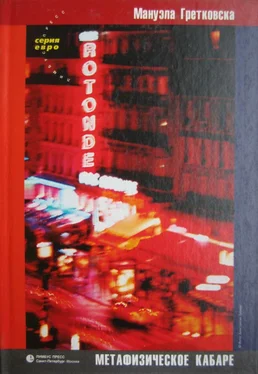Вместо слов ты вкладываешь мне в ухо язык. Обещаешь медленное свершение. Лижешь кончиком в самой глубине пропасти. Гладишь ягодицы. Я люблю получать шлепок, словно плохая, ленивая девчонка. Уж конечно, я не тороплюсь.
Ты притягиваешь меня за плечо, чтобы потереть шерсть. Звериную заплатку между ног. Рыжие змейки скользких волосков ведут палец в яму. Я широко развожу ноги. Гладкий палец превращается в шершавый язык. Моя сладкая мякоть стекает с твоих губ.
Ты придерживаешь мне руки. Не знаю, отталкиваю я тебя или удерживаю ногтями за плечи. Ты проскальзываешь в меня. Колышешься. Мелкие волны удовольствия заливают рот. Я отчаянно ловлю воздух, втягиваю в себя дыхание, тебя. Ты подталкиваешь к наслаждению. Все сильнее. Через мое тело, через разверстую наготу. Ты находишь новую ласку, вот там. В самой глубине. Мы теряемся, выныриваем, мы не можем сильнее вонзиться друг в друга. Разодрать. Я внутри тебя, в пульсирующем стоне. Танцую визг. Пальцы бессильно соскальзывают со вспотевших плеч. Мы давим бедрами последний кусочек сахара, дурманом растворяющийся в наших телах.
Я открываю глаза. Волокна простыни. Саван с отпечатком мокрых тел. Ты прижимаешь меня к себе тяжелой рукой. Целуешь, сонный. Ты еще во мне. Сейчас ты выпадешь. Я рожу тебя. Вытекают молочные воды, и ты мягко выныриваешь на мое усталое бедро. Я впадаю в сон. Король и королева со средневековой гравюры. Они заняты любовью. Сплетены воедино. Это мы. Мы коронованы оргазмом в этом царстве в нас, над нами. В царстве наслаждения, властвующем над миром без любви.
В греческой драме никто не путешествовал. Единство места и действия удерживало героев в вольере сцены. Хор комментировал судьбу прихлопнутых фатумом героев. Драма разыгрывалась здесь и сейчас. Если грек был обречен на путешествие, это занимало у него целую эпопею.
Современный человек сохранил чувство драматизма, однако единство места и действия поместил не на сцене, а в собственной душе, нарушив этим чистоту жанра. Человеческая жизнь стала драматической эпопеей, человек — зрителем и актером одновременно. Героем романов, садящимся в поезд, чтобы по дороге из города А в город Б свершилась его судьба. Порвав с единством места и времени действия, мы путешествуем между разделяющими пространство пунктами. Из-за нехватки веры в провидение время превратилось в преследующий нас рок. Мы не умеем терпеливо ждать его свершения. Мы в отчаянии давим пространство, топчем его, мстя за нарушение безопасного единства. От путешествия мы ожидаем сюжета, объясняющего смысл дороги. Поезда в романах XIX века развозят во всех направлениях героев драм.
Парадоксальным образом (от греческого paradoksos , термин пришел через Византию) поезд, служащий для более удобного преодоления пространства, становится на русских вокзалах орудием смерти. Свершением рока отчаявшихся литературных героев, бросающихся под колеса. Вместо того чтобы нести героя навстречу судьбе, он становится судьбой сам.
Последние двести лет — это время революций и все учащающегося перемещения идей. Не будем касаться фразы Ленина, контрабандой провезенного с Запада в поезде, о том, что революция — это паровоз истории. Настоящим революционером был Кант. Скальпелем чистейшей мысли он безвозвратно разделил единство времени и пространства. Поэтому, сознавая метафизическую тривиальность путешествия, он не покидал Кенигсберга. Хотя однажды он нарушил свои принципы и поехал в Голдап. За этот недостойный философа поступок решено было поставить ему на рыночной площади городка памятник. Надеюсь, до этого не дойдет, и бронзовый Кант в Голдапе не станет свидетельством превосходства неразумности философа над философией разума.
Anyway ; возвращаясь к дороге, в которую пускаются не осознающие опасностей путешественники, — они по-прежнему беззаботно садятся в поезда в Москве, Кутне или Денвере. Они наивно считают, что доберутся до места назначения, являющегося в действительности обычным фатумом. Ловушкой, сплетенной из единства времени и пространства.
Вот, например, Мари в пустом купе ночного поезда Тулуза — Тарн. Она послушно отдается ритму езды. Ее загорелые худощавые ноги прикрывает белая юбка. Ткань ложится на манер балдахина, прикрывающего внутреннюю поверхность бедер и треугольник внизу живота. Свет, проникающий через материю, придает коже теплый оттенок. Лучится из девичьих сжатых ног.
В соседнем купе у открытого окна, в струе шумного душного воздуха, сидит комиссар Карден. После каждого глотка из пластиковой бутылки вода пятном расплывается на его светло-голубой рубашке. Карден дремлет. Гаснет свет, поезд тормозит. В темноте стонущий скрежет вагонов заглушает треск цикад. Полупустой поезд останавливается посреди августовской ночи. Он везет людей, но мог бы также перевозить темноту, вливающуюся сквозь открытые окна.
Читать дальше