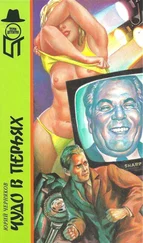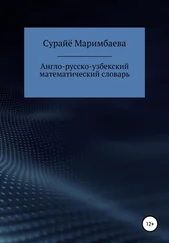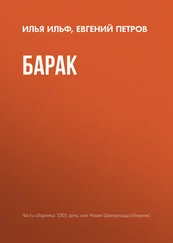Их сходство было не столько внешним, сколько по существу — в характерах. Мать меньше всего волновало чье-то мнение о ней — и Марина не искала в чужих взглядах оценку собственной персоны. Похоже, парень, скрывшийся тогда в толпе, был из той же породы, что и она с бабушкой…
— Папуля, здравствуй, как вы там, не скучаете?
— Здравствуй. Скучаем, и еще как, — ответил он, взглянув на проснувшуюся жену. — Даже когда спим.
— Все время забываю про эти часовые пояса… — вздохнула Марина. — Не сердись, ладно? Тут такое пекло, все позабудешь. А Олег, как всегда, забыл мне подсказать… (Она с нажимом напомнила имя своего нового друга, на случай, если родителям вздумается с ним поговорить.) Кстати, он передает вам привет. Ты меня слышишь?
— И ему от нас, — буркнул Игорь Андреевич, переглянувшись с женой. — Его зовут Олег… — сказал он жене вполголоса, прикрыв ладонью трубку.
Ему вспомнились слова доктора Фролова о любви и о творчестве, останавливающих время. Год назад он был в командировке в Испании, где узнал, что такое сиеста, и сейчас подумал: тамошняя жара, когда лень даже взглянуть на часы, справляется с этим не хуже.
— Не сердись, пап, ладно? Лучше скажи, что твой целитель?
— Он не целитель, а настоящий врач, — Игорь Андреевич недовольно взглянул на жену.
Оказывается, они еще раньше успели созвониться и поговорить по поводу его сегодняшнего визита.
— Скажи Марине, чтобы поменьше болтала, — сказала Полина. — Это сейчас дорого стоит.
— Скажи это сама, — протянул ей трубку Игорь Андреевич.
Жена проговорила с дочерью еще минут двадцать.
— Ты же знаешь, с некоторых пор с Мариной постоянно что-то случается, проговорила она, — и как отец мог бы ей сказать, что не с ее здоровьем разъезжать на верблюдах при жаре 38 градусов.
— Сказала бы и ты как мать, — буркнул он.
— Я ей говорила, но она лишь тебя слушает, — ответила Полина, повернувшись к нему спиной. — Так уж твоя мать ее настроила. Выключай свет… Кстати, она спросила, подумал ли ты, чем отдавать ее долги?
— Опять долги… — проворчал он. — Сама заняла, пусть думает, как отдать.
Он долго не мог заснуть. Он лежал на спине, закрыв глаза, наблюдая за бликами автомобильных фар с улицы, медленно ползущими по потолку.
Все видевшие фотографии его матери в молодости говорили, что Марина копия бабушки Ларисы. Игорь Андреевич почти не помнил молодого материнского лица. А старые фотографии весьма приблизительны: об одних рассказывают много, о других почти ничего. Мать относилась к последним. Ее лицо было чересчур живым и изменчивым. Она, как и Марина, принадлежала к такому типу женщин, чью прелесть трудно уловить. Легкие, мимолетные выражения их лиц не поддаются запечатлению. На фотографиях же у матери всегда натянутое выражение, с каким она обычно смотрелась в зеркало, постоянно оставаясь недовольной тем, что там видела.
Тогда все обожали фотографироваться, вместе или поодиночке, — возможно, из неосознанного стремления остановить время, как полагал доктор Фролов. Или из желания казаться лучше, чем есть. Впрочем, это одно и то же.
И все же, разглядывая ее на старых фотокарточках — темноглазую, осунувшуюся и бледную, одетую в телогрейку или большую, не по росту, спецовку, — он не мог не видеть, как ей подходит давно вышедшее из обихода определение «интересная».
Марина росла худущей, выше всех в классе, мальчики в лучшем случае не обращали внимания, а это ее злило. Как-то в семейном кругу, когда отмечали за чаем с тортом ее шестнадцать лет, Марина назвала себя «нецелованной дылдой, не знающей, как избавиться от своей невинности, хотя все подруги уже успели ею распорядиться».
— Кое-кто уже сделал аборт, — добавила она в полной тишине. — А я так и буду при вас всю жизнь?
— Не будь дурой, — строго сказала ей бабушка, пока опешившие родители приходили в себя. И добавила эту самую фразу: «Давай не будем бояться жизни, всегда встречать ее с открытым забралом, и наше от нас не уйдет».
— Что вы такое говорите, Лариса Михайловна? — ужаснулась жена.
— Только то, Полина Николаевна, что вы уже давно должны были сказать своей дочери, — отрезала мать и снова обратилась к внучке: — Ты, Маришка, слава Богу, пошла в меня. А значит, у твоих ног будут мужчины, каких мы только захотим.
Мать была стихийной феминисткой еще до того, как это движение стало всемирным. Ей было уже за семьдесят, но она оставалась восприимчивой и терпимой к любым переменам, какими бы шокирующими они ни казались ее сверстникам и сверстницам. Она никогда не жаловалась и всегда возражала: хуже, чем наша старость, уже ничего не будет.
Читать дальше