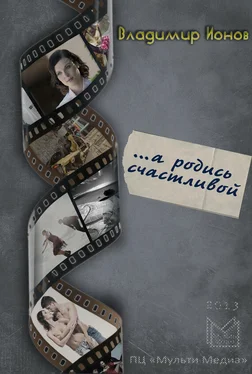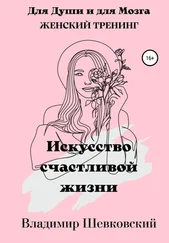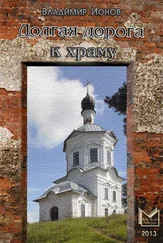Скребли тротуар в углублении улицы возле невысокой «стекляшки» кафе две девчонки, обе в коротких драповых пальтишках на ватине и в серых пуховых платках, парные, румяные, что-то звонко выговаривая друг дружке и хохоча, бегом возили перед собой широкий алюминиевый лист с перекладиной, сталкивая им на дорогу большие кучи рыхлого снега. Им было жарко от этого весёлого дела до того, что рукавички они забросили на задранные вверх клювы чёрных железных птиц, танцующих на ступеньках «стекляшки», и толкали перекладину голыми красными руками.
«И парикмахерская рядышком! — обрадовалась Люба, заметив на доме напротив вывеску. — Маленькая, на два-три мастера, — оценила она по окнам, — но лишь бы не детская была. Всё… Это судьба!»
— Девочки, остановитесь на минуту! — попросила она, уворачиваясь от снежного вала, несущегося ей навстречу на листе алюминия.
Столкнув снег на дорогу, похожие как двойняшки, девчата подтащили лист в Любе и, круто дыша парком, уставились на неё весёлыми вишнями глаз.
— Вы тут сами работаете или помогаете кому? — спросила Люба.
— Ага, работаем, — сказала одна.
— Ага, помогаем, — сказала другая.
— А там какая парикмахерская — мужская или женская? — кивнула Люба назад и замерла. Она вдруг загадала для себя: если мужская, то всё будет хорошо, а если женская, не стоит и спрашивать про работу.
— Не знаем, — ответила одна.
— Мужчины туда ходят и женщины ходят, а мы не ходим, Мы косы не стрижём, а ногти сами красим, — сказала другая.
Значит, надо спрашивать. И спросила:
— А здесь, не знаете, дворники больше не нужны?
— Это Мустафин знает, а мы не знаем. А ты татарка разве?
— Почему? Нет. А что?
— А для кого спрашиваешь?
— Для себя, а что?
— Большая разница. Мустафин только своих берёт. На этой улице все татарки работают, и там татарки, — кивнула она головой вперёд. — И там, — показала в сторону. — А тебе комнату надо или в институте учишься?
— Комнату. — Люба сказала так тихо и невесело, что вишнеглазые вдруг забалакали между собой по-татарски, всё время взглядывая на неё с любопытством. Потом одна сказала: — Комнаты на стройке дают, сегодня радио говорило. Послушай вечером, оно опять скажет, на какой стройке.
— А пусть дорогу перейдёт, там контора у магазина, у неё на стекле тоже написано: комнату дают, — сказала другая.
«Что значит, парикмахерская не та», — кисло подумала Люба.
— Ну, спасибо, девочки, — сказала она. — Как здесь к гостинице «Москва» вернуться?
Те переглянулись и не ответили. Припоминая, как шла сюда, Люба сориентировалась: где-то впереди должна быть улица Герцена, а там налево, вперёд и ещё раз налево…
Поднимаясь на этаж, Люба хотела лишь одного — чтобы никого не было в номере. Прогулка по улицам — где тихим и заснеженным, где мельтешащим, как снегопад в чадном воздухе, — оглушила её, расслабила, и теперь оставалось только добраться до своего угла, упасть там на спину и на какое-то время забыться.
Дежурная по этажу, уже не та, что болтала с тонкоухим, а сухая, подтянутая, как классная дама, мельком глянула сквозь узенькие очки на протянутую Любой визитку и совершенно неожиданным для такого облика мужицким басом сообщила:
— Тебя, милая, перевели в другое место. И чемодан туда перенесли и всё остальное. Подожди, сейчас проводят. — Позвонила куда-то, пробасила: — Подымайся, пришла гостья.
Появилась тоненькая темноволосая девочка с круглыми карими глазами в болезненно розовых веках. Так же, как шофёр Ускова, внимательно, будто силясь провидеть насквозь, оглядела Любу, двинула бесцветными губами:
— Пойдёмте, — и, не оглядываясь, споро засеменила по коридору и каким-то замусоренным лестницам. В коротком, узком коридорчике отперла одну из трёх дверей и остановилась, пропуская Любу вперёд.
В сумрачной комнате с не завешенным квадратным полуокном Люба различила сливающиеся из-за тесноты друг с другом диван, шкаф, небольшой столик и жёсткий стул.
— Включить свет? — спросила сзади девочка.
— Спасибо, нет, — ответила Люба, чувствуя, как всю её, от уставших ног до горячих волос под шапкой начинает охватывать тоскливая жалость к себе, и надо скорее остаться одной, чтобы никто не видел рёва, который уже накатывал откуда-то из подвздошья, и ей будет не сдержать его. — Спасибо, я всё найду.
Видимо, поняв её состояние, девочка молча переткнула ключ из внешней скважины во внутреннюю и ушла.
Люба стащила с себя шубу, опустилась с нею на диван, ткнулась горячим лицом в мокрый от снега мех и отворила ход слезам. Плакала долго, надрывно, до боли под ложечкой и, размазывая шубой слёзы, горько жалела себя, обиженную всеми на свете, неприкаянную, бедную, брошенную матерью и мужем, изнасилованную рыжим зверем, никому не нужную, выкинутую в какую-то дыру с просиженным диваном, и такую молодую, гибкую, красивую, хотя и глупую, конечно… Конечно глупую, если разревелась коровой вместо того, чтобы пойти к этому Панкову, внести себя к нему так, чтобы слюнями облился, и сказать: вы что это, дорогой, себе позволяете? Или даже просто позвонить ему от дежурной и спросить прямо при ней: а гостей я где принимать должна?.. Каких гостей? Красноносых генералов? Толку-то от них! Всё! К чёрту всех стариков, всех председателей и генералов, всяких взяточников и утопленников, рыжих бугаёв и недоносков, торгашей и пасюков — всех к чёрту! Им только пить, жрать и хватать за ноги.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу