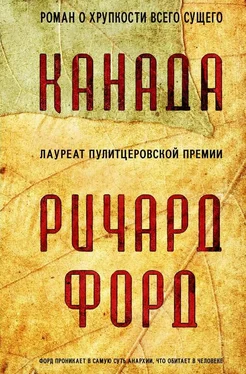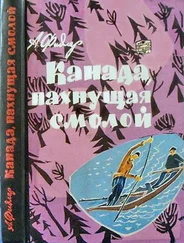Но ведь я никого не убивал — ни во сне, ни наяву (хоть и помог закопать двух убитых американцев и должен как-то поплатиться за это).
«Хроника» нашей матери примерно такой, как описала ее Бернер, и оказалась: разрозненные, недодуманные мысли, предназначавшиеся для дальнейшего использования, ее отношение к ограблению, ее мнения, рассуждения, банальности, резкие слова о нашем отце. Наверное, кто-то и смог бы обратить их в полноценную книгу. Рёскин сказал, опять-таки, что искусство композиции состоит в расстановке неравноценных вещей и явлений. А содержание маминой «хроники» вполне можно назвать неравноценным. Однако в моем возрасте выполнение такого рода долга становится неинтересным, поскольку ничто уже не является равноценным вопросу о том, сколько и как мне осталось жить, — весьма печально, но это правда.
Впрочем, в «хронике» есть одно место, ради которого Бернер, пожелавшая, и очень сильно, чтобы я его прочитал, и отдала мне эти листки.
«Я думаю, — написала своим изящным почерком мама (синими чернилами, которые ей выдали в тюрьме и которые местами выцвели почти до невидимости), — что, умирая, человек, наверное, желает смерти. И не борется с ней. Это как сон. И хорошо. Тебе не кажется, что это приятно? Просто отдаться чему-то? И никакой больше борьбы, борьбы, борьбы. Рано или поздно меня это напугает, я начну испытывать сожаления. Но сейчас мне хорошо. Я избавилась от бремени. От огромного бремени. Как выяснилось, природа очень даже терпит пустоту».
Эта запись датирована весной 1961 года. Бернер пометила ее карандашной галочкой. Для нее эти слова что-то значили. Возможно, настанет день, когда они приобретут значение и для меня — больше того, что лежит на поверхности.
Время от времени я проезжаю через тоннель и попадаю в Детройт — город, который когда-то стоял здесь, а ныне обратился в акры и акры пустырей с вытянувшимся вдоль реки фальшивым фасадом из сверкающих зданий, хорошей миной плохого игрока, обращенной к нашему миру, раскинувшемуся по другому берегу. Проехав вдоль реки до Джефферсон-авеню, я прорезаю пригороды и поворачиваю к Тамбу и Порт-Гурону. Думаю я при этом, что еду на север, в Оскоду, — городок, где я родился, — посмотреть, что он представляет собой теперь, взглянуть на остатки авиабазы, о которой не сохранил никаких воспоминаний. Однако стоит мне увидеть огромную, длиной в восемьсот семьдесят футов, арку моста Блю-Уотер, которая манит меня в Сарнию, и желание попасть в Оскоду испаряется — так, точно я совершил бессмысленную попытку вернуть себе то, чего у меня никогда не было. «Ты бы все-таки съездил в те края, — уговаривает меня жена. — Интересно же. И поможет тебе поставить точку». А то я не пробовал.
Разумеется, я хорошо понимаю, что живу по другую сторону границы от города, который расположен рядом с местом моего рождения, города, в котором совершил первое свое злодеяние Артур Ремлингер, из которого отправились на встречу со своей судьбой двое американцев. В определенном смысле значительность его действует на меня гнетуще, я нередко думаю, что город, где я живу сейчас, для меня — на какой-то извращенный манер — и предназначался, а гнет, который я ощущаю, есть гнет последствий всего, что со мной случилось. Как если бы от меня ожидалось, что я смогу совладать с двумя противоположными сторонами некоего явления. Впрочем, я в такие штуки просто-напросто не верю. А верю я — и ученикам моим это внушаю — в то, что, взглянув на любую вещь, мы видим ее практически полностью, и в то, что жизнь вручается нам пустой. И стало быть, если значительность чего бы то ни было гнетет нас, то это практически и все, на что она способна. Скрытые смыслы в ней отсутствуют — почти.
Мама сказала когда-то, что у меня впереди тысячи утр, чтобы просыпаться и все обдумывать, и никто не сможет указывать мне, что и как я должен чувствовать. Теперь многие тысячи этих утр позади. И додумался я вот до чего: ты получаешь в жизни лучшие шансы — шансы выжить, — если умеешь сносить утраты; если они не обращают тебя в циника; если тебе удается подчинять себя жизни, выдерживать, как советует Рёскин, пропорции, соединять неравноценное в одно целое, которое сберегает в себе добро, даже если отыскать это добро заведомо трудно. Мы стараемся, как сказала моя сестра. Мы стараемся. Все мы. Стараемся.
Никому не обязан я больше, чем Кристине Форд, — за помощь и поддержку, за ум, благожелательность и терпение, без которых эта книга закончена не была бы, за то, что она сделала все необходимое для этого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу