Самара — Саратов
После Самары на Волге сгустился туман, и река вдруг раздалась, покрылась островами с густой растительностью, полностью одичала. Это уже была не Волга — Амазонка. Пошла крупная волна. В ночном баре падали бокалы. Все 100 журналистов провинциальной российской прессы плясали и пили, пили и плясали. Мы с немкой сидели в углу: наблюдали.
Русские пляски не похожи на ночные берлинские танцы. В русской пляске сохраняется первобытный элемент истеричности, требующий почти немедленно словесного довеска в виде исповеди. Впрочем, простой народ редко кается. Вместо исповеди он горлопанит. Он так орет на улице песни, как никто нигде не орет. Иное дело — русский журнализм. Все сто журналистов хотели поделиться всеми своими нутряными тайнами. Женщины рассказали, что они — жертвы брака: их мужья — алкоголики, дети — наркоманы. После работы в редакции они ездят на загородные участки сажать картошку: денег не хватает. Маленький Дима-негр с Сахалина сообщил, что он жертва Афгана и хуесос. Бухгалтерша сорока восьми лет жертвенно показала мне свои груди.
— А где исповедь? — не понял я.
— Разве они не достаточно красноречивы? — возразила бухгалтерша.
— Три брака, две дочки, пятнадцать абортов, — вглядевшись, как хиромант, сказал я.
— Сошлось, — сказала бухгалтерша, застегивая бюстгальтер.
Молодой человек из уральского города признался, что он — жертва пера: пишет гениальные стихи, но стыдится показывать. Я попросил прочитать хотя бы одно.
— Зачем? — застыдился поэт.
Каждый поэт в России мечтает умереть под забором. Я не стал настаивать. Новосибирский журналист, с лицом умирающего Ленина, признался, что сотрудничал с КГБ.
— И зачем тебе банка? — спросил он меня в свою очередь.
— Надо.
— Экуменизм не пройдет, — заверил он.
— Лора Павловна! — крикнул я. — Нельзя ли шампанского?
— Кончилось! — враждебно огрызнулась буфетчица. — Да что ж ты такое выдумал? — запричитала она. — Воду матушки Волги нельзя брать на анализ!
Журналисты подсобрались на шум.
— Ну что, — сказал я, обратившись к присутствующим. — Выживет Россия или пойдет ко дну?
— Мы лучше всех, — раздался общий ответ.
— Еще раз о национальном запахе, — сказал я немке, медленно возвращаясь к ней за столик.
Я иду сквозь строй бомжей, проституток с площади трех вокзалов, железнодорожных ментов, поднимаюсь по лестнице к гардеробщикам престижных казино, барменам, крупье, клиентам, стриптизеркам, и мне все говорят: «Мы лучше всех». Я захожу в новейший туалет со стереофонической музыкой. Кабинки заняты. Дверцы распахнуты. В Европе блевать — жизненное событие, как и аборт, об этом в конце жизни пишут в мемуарах. Здесь — рутина. И все эти «мы лучше всех», по-флотски расставив свои мужские и женские ноги, блюют. И, кажется, если в богатейшей стране на излете архаического мышления мы не разуверимся в своей превосходной степени, то мы заблюем весь мир.
Но особенно отличилась красавица Наташа из газеты подмосковного города О., что танцевала в очень коротком платье, похожем на прилипшую к телу тельняшку. Она подошла к нам, резко села за столик:
— Ну, как вы думаете? У меня под платьем есть белье или нет?
Я сразу понял, что ничего там у нее нет, кроме желания, но она перебила, не дослушав:
— Я никогда не спала с женщиной, у меня, сами понимаете, были комплексы, но я бы хотела попробовать.
Немка, не чуждая женским привязанностям, погладила ее по длинным волосам.
— Я уже полюбила твою прямую кишку, — сказала она, показав Наташе свое экстремистское тату на бедре.
— Но вообще-то я предпочитаю его, — кивнув на меня, сказала ей Наташа на ломаном английском языке.
Меня всегда умиляет блядовитость русских девушек.
— Рыбка! — сказал я, подняв брови.
— Хочу! Хочу! — обрадовалась она.
Тут немка не выдержала и, ссылаясь на головную боль, потащила меня на палубу смотреть на туманную Амазонку.
— Они сумасшедшие, — сказала она.
Весь Саратов прошел в выяснениях отношений. Говорят, Саратов по-монгольски значит «Желтая гора». Местные националисты борются с этой этимологией насмерть.
Подвиг Голубинова
В картинной галерее Саратова много шедевров. Иногда вдруг наедет экскурсия школьников, поорет, поиграет в прятки, полюбуется живописью Репина и Малевича, и вновь тишина. Мы встретились с Голубиновым перед картиной неизвестного итальянского художника пятнадцатого века, изображающей Мадонну с ребенком и двух ангелов, больных конъюнктивитом. Голубинов — интеллигент тридцати двух лет. Худой, в очках, как Чернышевский, но от сходства отказывается. В руках у Голубинова была авоська с трехлитровым на вид предметом, бережно завернутым в саратовскую газету.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
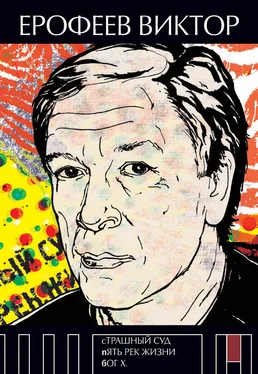






![Эрих Дэникен - Страшный суд начался [Второе пришествие богов…]](/books/427281/erih-deniken-strashnyj-sud-nachalsya-vtoroe-prishestv-thumb.webp)


