— Потрогай! Он вернулся ко мне! Мой петушок вернулся! — от счастья заплакала Габи.
На радость мне, она тонула во всех пяти реках. Мы были чужие друг другу люди, попадавшие в аргонавтные условия вынужденной близости. Каждый по-своему бездомный, несчастный, растерянный. Я люблю ее точные лесбиянские руки, шарящие по утрам мои соски. Она — разложение женской массы, выделение мужского начала, распространение волосяного покрова, щетина на ягодицах, затвердение молочных желез, отказ от деторождения, острый интерес к молоденьким графиням, развивающийся алкоголизм, перенос интереса в анал, тяжелая шишка сфинктера, раздробление принципов, потеря половой идентификации, генетическая катастрофа, гормональный бред, продукт века, его наказание.
Я аккуратно потрогал указательным пальцем. Не хилый, и даже залупается, как детский пенис. Не сразу сообразишь, где кончается большой клитор и начинается маленький хуй. Боюсь ошибиться, но клитор Габи, по-моему, и есть посол на хуй.
Мы с ней панически боялись (ой, просто тряслись), но не мухи цеце, с которой медицина довольно успешно борется, а одного водяного невидимого микроба, который живет в стоячей воде Нигера всего двадцать секунд и за это время ищет, куда бы ему внедриться, и если человек купается или просто стоит как дурак, то микроб в него попадает, как пуля, и после этого у мужчин отпадают все половые органы в буквальном смысле этого слова. У женщин тоже все отпадает. Во всяком случае, у Габи, как теперь всем известно, есть чему отпасть. Солнце заходит здесь ровно в шесть вечера, и начинается тьма. Первую ночь мы ночевали в палатках. Сны в пустыне похожи на медленно разворачивающиеся оперы с длинными ариями, хором, множеством действующих лиц, оркестром и декорациями из реквизита Большого театра.
Лежишь, приложив ухо к пустыне, вслушиваешься в подземные саги земли и содрогаешься. Я такие безумные сны видел только раз, на Тибете, и во время болезней. О чем эти сны? О скоротечности времени, Страшном суде, разлуке с любимой женщиной, человеческой бездомности, мало ли о чем. То в одной одноместной палатке, то в другой в ужасе орут сонные люди. То капитан заорет, то помощники-Пушкины, то верный наш Горький, то повариха Элен. Под утро, часа в четыре, ко мне в палатку с ревом влетела немка, ей приснилось, что она разрушила в Германии всю налаженную систему социального страхования.
Не успела она успокоиться, как до нас донеслись неопределенные звуки воя. Они приближались. Надо сказать, что когда мы выходили на берег, я фонарем осветил какое-то большое скопление белых костей и даже успел пошутить по этому поводу, но тут призадумался. Когда же чьи-то хищные морды стали тыкаться в полупрозрачную, фактически, эфемерную для хищных зубов палатку, то Габи узнала в непрошеных мордах шакалов. Поскольку Догон снабдил ее дополнительной информацией об этих мерзких животных (информацией, которую мы с ней сочли правильным не комментировать), а, кроме этого, она, может быть, даже еще пахла шакалом, сомнений не оставалось. Мы поджали ноги и затаились. В соседних палатках тоже закончились храп и кошмарные крики. Наступила человеческая тишина.
— Сури! — крикнул я на весь сахель по-французски. — Чего делать-то?
— Ш-ш-ш! — был несчастный ответ.
Но вдруг раздался громкий выстрел. Это как-то сразу приободрило меня. Оказывается, капитан захватил с собой огнестрельное оружие. Раздался вой испуганных зверей. Затем топот. Мы выскочили из палатки с фонарями. Капитан гнался за шакалами с палкой наперевес. Враги ретировались. Мы сели у костра.
— У меня просьба, — сказал капитан, который, несмотря на тьму, оставался в солнечных очках за три копейки.
— Не болтать о Догоне? — не выдержал я.
Капитан почесал нос.
— Я тридцать лет, и никогда такого, — сообщил он. — Давайте перейдем спать в пирогу. Там на дне, конечно, не фонтан, но зато безопасно, как в чреве матери.
Кудрявые помощники перенесли Габи на своих тонких руках на судно, храбро бредя по стоячей микробной воде.
— А это верно, что у русского президента обезьянье сердце? — спросил капитан, когда мы расставались с ним навсегда на пристани неподалеку от Томбукту.
— Как обезьянье?
— Да тут все говорят… Вы не обижайтесь, — сказал капитан. — Обезьяны — они нам ближе собак.
Томбукту
Посещение Томбукту есть уже само по себе его похищение, и любой отъезд из Томбукту напоминает бегство. Отсутствие дорог имеет принципиальное значение и не обсуждается. Каждый белый, посетивший Томбукту, достоин смерти. Я увидел себя в Томбукту как запечатанную сургучом бутылку и благодарил Господа за Его милость и покровительство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
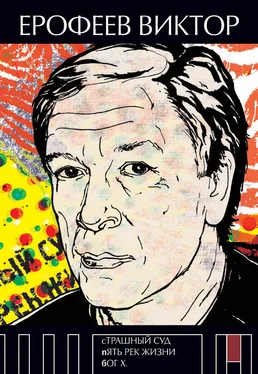






![Эрих Дэникен - Страшный суд начался [Второе пришествие богов…]](/books/427281/erih-deniken-strashnyj-sud-nachalsya-vtoroe-prishestv-thumb.webp)


