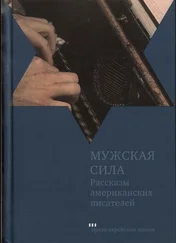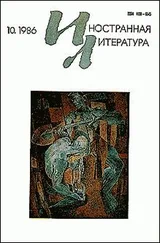Портрет сконфуженного старика, неумело выполненный на листке с экзаменационной работой, учительница литературы со смехом показала каждому. Все от души посмеялись, кроме преподавательницы богословия. Но это не удивительно, — вполне могло быть, что в экзаменационных работах своих высокообразованных учеников ей доводилось встречать портреты самого господа бога — что ей после этого какой-то Ансари?!
В тот самый момент, когда учительская сотрясалась от хохота, вошла еще одна учительница, самая тихая и застенчивая из нас, с неуместной почтительностью подала экзаменационную ведомость начальнице отдела успеваемости и присела в уголке. Начальница отдела успеваемости, которая до этого исподлобья наблюдала за нами, достала из сумочки очки и начала внимательно проверять и перепроверять ведомость. Вдруг она спросила вполголоса:
— Уважаемая! Сколько будет тридцать пять плюс тринадцать? Сорок три или сорок восемь?
Учительница побледнела и что-то промямлила, а затем, вместо того, чтобы сказать, что, скорее всего, она неразборчиво написала цифру восемь и та стала похожа на три, дрожащим голосом ответила, что она «заполняла ведомость вечером при коптилке»… Начальница торжествующе заметила, что «все так работают, и ничего…». Пристыженная учительница густо покраснела и, опустив голову, замолчала. Вот почему я заполняла ведомость с особой осторожностью, — чтобы потом не краснеть и не оправдываться.
Как раз когда я мучилась с цифрами и мои пальцы блуждали по кнопкам калькулятора, в комнату вприпрыжку влетела моя четырехлетняя дочь. Держа в руках оставшийся от экзаменов лист бумаги, она выпалила:
— Видишь, мамочка, я твой портрет нарисовала.
Как всякому человеку, мне было любопытно узнать, какой меня представляют другие люди, поэтому, отложив в сторону калькулятор и ведомость, я придвинула лампу поближе… Портрет, исполненный шариковой ручкой, состоял всего из нескольких деталей. Большая голова. Пара выпученных глаз без бровей, нос — тонкая вертикальная черточка, рот — жирная точка. Еще одна черточка соединяла голову с несоразмерно маленьким туловищем. От шеи с обеих сторон шли вниз две дуги, пропадавшие где-то у талии. Из юбки торчали две палочки, видимо ноги, такие же тоненькие, как нос и шея. Ноги висели в пустоте, и сама я как бы болталась в воздухе, словно повешенная. Ушей не было вовсе. Дочь, вероятно, знала, что без них живется спокойней, и поэтому, заботясь обо мне, изобразила меня безухой. Мне стало страшно. Я вдруг испугалась того, что дочь видит и представляет меня именно такой, как на этом портрете. Но я ничего ей не сказала и засмеялась. Дочь сочла необходимым дать к портрету дополнительные пояснения:
— Видишь, у тебя руки в карманах? Это ты достаешь для меня леденцы.
Было приятно, что даже от нарисованной мамы девочка ждет чего-то хорошего. Правда, сколько я ни вглядывалась, так и не поняла, чем у меня заняты руки. Конечно, раз они исчезали у пояса, вполне вероятно, что я сунула их в карманы за леденцами, хотя на рисунке никаких леденцов не было, и только моя дочь ухитрялась их там узреть. Дочь еще не закончила объяснений, когда примчалась моя младшая и, выхватив у нее листок, бросилась бежать. Старшая подняла крик, и обе, сойдясь в темном углу, принялись колошматить друг друга. Рисунок был разорван напополам, после чего атаки возобновились с удвоенной яростью. Я разняла их и объявила, что «драться нехорошо», что «младшие не должны бить старших, старшие — младших, и вообще — никто никого бить не должен». Я знала, что эти извечные материнские наставления абсолютно бесполезны: пока дети маленькие, в ход идут кулаки, когда вырастут — кулаки заменят кинжалы и пули, и поэтому непутевые дети Адама всегда готовы превратить божью землю в игрушку для своих жестоких военных забав и осквернить ее чистоту кровью.
Младшая захлебывалась слезами. Я обняла ее, прижала к груди. Вытерла ей слезы и пообещала, что, когда включат свет, я дам ей машинку, с которой она будет играть в коридоре совсем одна, и еще много всего наобещала… В темном углу хныкала старшая.
— Ну хватит! — приказала я ласково.
С отчаянием истинного художника, чьей работы никто не узнает и не оценит, дочь сказала сквозь слезы:
— Ты видишь? Она порвала мою картину. Видишь?
Мне было понятно ее отчаяние.
— Не беда, — ответила я, стараясь ее утешить, — сейчас склеим. — Я пошла в другую комнату и, перебрав впотьмах все баночки и пузырьки на полке в шкафу, нащупала наконец нужный тюбик. С тщательностью реставраторов мы склеили рисунок и положили на полку под окном сушиться. Поняв, что я готова на все — только бы ее успокоить, дочь, все еще шмыгая носом, нанесла мне прямо-таки смертельный удар:
Читать дальше