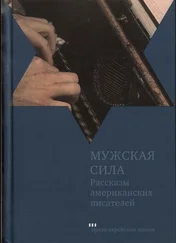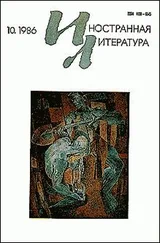И он чуть ли не к самому лицу поднес мне свою окровавленную торбу, отвернув у нее один край. Моим глазам представилась темно-красная масса. Покрепче прижав к себе лепешки, я стиснула зубы. Мне снова стало нехорошо. Беспомощно глядя на соседа, я молча попятилась. По глазам было видно, что он ждет от меня подтверждения своих слов. Я кивнула. Тут сосед заметил мое состояние и спросил:
— Вам нездоровится?
— Нет, ничего, — ответила я.
— Но вы так побледнели… — не отставал он.
Мне ничего не оставалось, как начать объяснять, что «у нас в школе был учитель каллиграфии, и сегодня я случайно его встретила… через столько лет… он так одряхлел… и наверное…» Не слушая меня, сосед с хихиканьем занялся своей торбой. Уложив мясо, он широко, во весь рот, улыбнулся.
— Теперь не выпадет, — сказал он, указывая на торбу. Я замолчала. Сосед вернулся к прежнему разговору, сообщив в частности, что жена его предпочитает жирное мясо, которого теперь не найдешь, так как считает, что на жирное мясо масла уходит меньше, и вообще жирное мясо полезно — от него поправляешься, а жене очень хочется пополнеть, да и сам он в полноте ничего плохого не видит, — полнота это даже хорошо, особенно для женщины; правда, мясо, которое он сегодня купил, к сожалению, не так, чтобы слишком жирное, но все равно хорошее, это сразу видно… Призывая меня в этом удостовериться, он опять сунул мне под нос свою раскрытую торбу. И все говорил, говорил… но о чем, понять было трудно, его голос доносился словно откуда-то издалека: «Мясо… жирный… мясник… полнота… здоровье… масло… жена… полный… каурма…» До меня доходили лишь отдельные слова. Связать их вместе, чтобы добраться до смысла, я была не в силах.
Наконец показались наши дома — мы почти пришли, а все казалось, что до них еще идти и идти.
Дома я прошла на кухню. Положила на край стола хлеб. Села. Отломила и отправила в рот кусок лепешки, но, вспомнив про соседское мясо, выплюнула лепешку в помойное ведро. Как во сне обвела глазами кухню — чашки, банка сухого молока, водопроводный кран… Мне послышались какие-то голоса. Они словно бы спрашивали меня о чем-то. Сосед, помнится, тоже о чем-то спрашивал… Вопросы, вопросы… я не смогла ответить ни на один…
Взглянув на часы — было без чего-то восемь, я заторопилась на службу.
* * *
Несколько дней спустя, сидя у себя дома, я услышала по радио сообщения об умерших. «По случаю кончины… — неожиданно донеслось до меня. — …в прошлом учитель в…» Не дослушав, я поняла, что это о нашем учителе каллиграфии. В памяти возникли: белая, подкрашенная синькой чалма, очки в светлой оправе, цепочка от часов, соединявшая небольшую пуговицу на жилете с жилетным карманом, непромокаемый плащ, черный портфель… Вспомнились половина лепешки, грязная чалма, трость… Еще немного, и ожившие было образы распались, словно растаяли — их больше ничто не связывало. У меня сжалось сердце. Положив голову на колени, я попыталась представить себе лицо нашего учителя каллиграфии, человека, который столько лет заставлял трепетать наши сердца… Но у меня ничего не вышло. Не знаю почему, но мужчина, возникавший в моем воображении, был без лица. Я покачала головой с невольной досадой.
— Это еще что? — спросил чей-то знакомый голос. — Чего это ты головой мотаешь? Что-нибудь натворила?
Я через силу улыбнулась и промолчала. Об учителе каллиграфии я не сказала ни слова. Не сказала, что мужчина, которого нет больше в живых, столько лет тревожил наши сердца, и мое сердце тоже.
С потолка суетливо спускался паук на своей паутине.
За окном, как обычно, тащил за повод хилого, заморенного ослика бродячий торговец, выкрикивая осипшим голосом:
— Картош-ш-шка… Помидо-о-о-ры…
Перевод с дари Ю. Волкова
В школе шли годовые экзамены, и вечером надо было проверять письменные работы. Света не было. Лампа коптила. В комнате пахло едой и ламповым маслом. Я знала, что от этого запаха у меня опять разболится голова, — она всегда болела, когда отключали свет и приходилось зажигать коптилку. Но в это мало кто верил, считая меня привередливой, поэтому на сей раз, дабы избежать упреков, я сходила на кухню и тайком выпила таблетку аспирина.
Устроившись среди разложенных на полу бумаг, взялась за проверку. (Я преподавала дари: язык и литературу.) Работы были до того скверные, что сердце кровью обливалось. Исправляя листок за листком, я с горечью убеждалась, что итог работы за год оказался близок к нулю. Так, отвечая на вопрос о наиболее популярном героическом сюжете «Шах-наме», один ученик написал, что это — «Лейли и Маджнун», другой назвал «Ширин и Фархад», третий — «Хосров и Ширин», четвертый — «Вис и Рамин», пятый «Вамег и Азра», следующий нетвердо вывел «Адам-хан и Дурхонай», а еще один умудрился отнести к последним сочинениям Фирдоуси поэму «Сияхмуй и Джелал»[Здесь и выше приведены названия любовных поэм различных авторов.], отчего великий поэт, похороненный много веков назад, верно, содрогнулся в земле и, должно быть, усомнился в подлинности собственных сочинений, ибо подобные утверждения исходили не от кого-нибудь, а от моих просвещенных учеников, которым доподлинно известны имена и звания всех влюбленных на свете.
Читать дальше