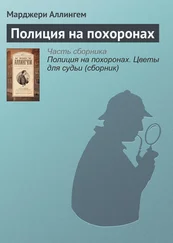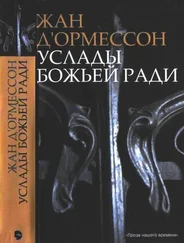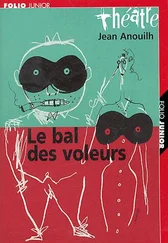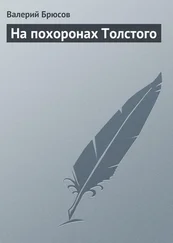Она спросила меня:
— Вы очень дружны с Роменом?
Я ответил:
— Я очень люблю его.
— Я тоже, — прошептала девушка.
— Ты часто видишься с ним?
— Не очень, — ответила она. — Он часто видится с мамой.
Было уже поздно. Мы расстались на бульваре Сен-Жермен. Расстались со смешанным чувством радости и печали, которое станет потом на долгие годы лейтмотивом нашей любви…
…Марина уже не плакала. Я неподвижно стоял под бледным солнцем, освещавшим кладбище из-за туч, и смотрел на нее: она тоже неподвижно стояла перед могилой Ромена, опираясь на дочь. Она была почти в самом конце длинной процессии, вот уже более часа топтавшейся на подходе к могиле. Марина… Она неотделима от моей жизни. И от жизни Ромена…
Через несколько дней я обедал с Роменом, Казоттом, Далла Порта и Жераром у Ле Кименеков. Ромен должен был на следующий день улетать в США, где его ждала Марго, поэтому хотел лечь спать пораньше. Мы вдвоем ушли первыми.
Выходя, я рассказал ему, как мы встретились с Мариной.
— А-а, — только и сказал он.
— Мне было так приятно снова увидеть ее. Ты, вероятно, видишься с ней чаще, чем я. Мы с ней случайно столкнулись в театре года два назад, а потом я опять потерял ее из виду. И вот она пришла в Сорбонну на эту мою встречу со студентами. Она очень симпатичная. И вообще очень хороший человек.
— Да, — ответил Ромен, — неплохой.
— Неплохой?!
— Лучше, чем неплохой, если уж тебе так хочется. Но слишком настойчивый.
Я внимательно посмотрел на него:
— Ты не очень-то хорошо настроен к ней, — сказал я ему.
Мы спускались по улице Суффло. Он остановился и закурил сигарету.
— Я очень хорошо к ней отношусь, — сказал он.
— Но?.. — подтолкнул его я.
— Я предпочитаю ее мать.
— Я знаю. И что из этого?
— А то, что она бегает за мной.
В интонации Ромена мне послышался не просто цинизм — это случалось с ним довольно часто — сейчас слова его прозвучали настолько вульгарно, что на моем лице, должно быть, отразилось изумление.
— Приди в себя, — сказал он и хлопнул меня по плечу.
Я расхохотался:
— Так на что же ты жалуешься? В детстве она была такой очаровательной девчушкой. Ты помнишь, какой она была на Патмосе, когда прыгала к нам на колени?
— Помню… — сказал он задумчиво. — Да, она была очаровательной…
— И, я уверен, никто не скажет, что теперь она стала хуже.
Мы пошли дальше и подошли к Люксембургскому саду.
— Она тебе нравится? — спросил Ромен, с сигаретой в зубах, держа руки в карманах.
— Да, конечно, — ответил я. — Очень.
— Тогда будь другом, займись немного ею.
…Говорила ли она мне «позвоните»? Говорил ли я ей «я тебе позвоню»? Не могу сказать. Во всяком случае, я тогда попросил у нее номер ее телефона, и она мне его дала. Был ли я влюблен в нее уже тогда, на бульваре Сен-Жермен, у перекрестка улицы Фур, рядом с баром, где подавали настоящий ром с Мартиники и где на протяжении многих лет назначали друг другу встречи многие наши друзья? Был ли я уже влюблен в нее в тот вечер с Роменом, у Люксембургского сада? Не думаю. Скорее мне стало ее жалко. Те несколько слов, которыми мы обменялись тогда с Роменом, вызвали во мне какое-то щемящее чувство. Возможно, по вине самого Ромена что-то проскользнуло между ним и мной: это «что-то» и была она. У нее было все, или почти все, она ни в чем не нуждалась, но при этом она выглядела потерянной и какой-то заброшенной. Вообще-то, двадцатилетним людям часто свойственно впадать в тоску, но она казалась самим воплощением этой юной тоски…
…Она бросила розу. И я отвел глаза, так и не осмелился посмотреть на нее в это мгновение… Затем она направилась ко мне, и я обнял ее. Изабель подошла к бабушке и отцу, оставив нас с ней вдвоем…
… Я позвонил ей. И мы встретились. Мы стали назначать свидания где-нибудь на углу улицы, у входа в метро. Время от времени мне вспоминались слова, брошенные тогда Роменом после ужина у Ле Кименеков, но я тут же гнал их от себя. Мы с ней часто ходили в кино «Золотая каска», «Рашомон»… Мы пересмотрели все старые фильмы, на которые ее мать и Ромен ходили еще в Нью-Йорке… Нам понравился «Notorious» с его лестницей ужасов; «Магазин за углом» с его сверхизысканностью, там вообще ничего не происходит; «Касабланка», «Сыграй еще, Сэм…»; «Филадельфийская история» с ее парусником и Хепберн, той первой, несравненной; мистический «Великий сон», в котором мы ничего не поняли: возможно, это произошло потому, что во время этого сеанса мы с ней первый раз поцеловались…
Читать дальше