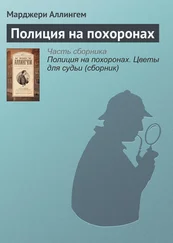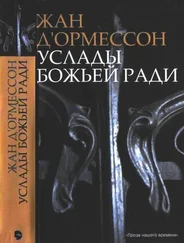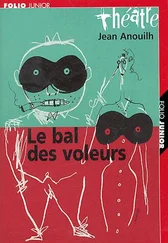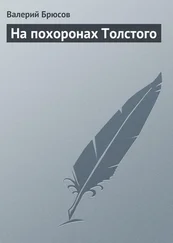Было много случаев изнасилования фабричных работниц, торговок, работниц ферм. Ромен не раз наблюдал сцены грабежа и насилия, которые можно было счесть местью русских за все те преступления, что совершались немцами в Белоруссии и Украине. Эти злоупотребления с советской стороны продолжались обычно два-три дня, а затем элитные подразделения восстанавливали порядок.
Иногда трагедия войны обретала черты комедии. В апреле 1945-го, после перехода через Одер, Ромену встретился советский военный врач, уцелевший после Сталинграда; он только что получил письмо от своей жены. Бедняга был в полной растерянности, и Ромен утешал его как мог: жена была уверена, что он погиб в декабре 1942-го, и теперь сообщала ему, что у нее уже трое детей, из которых только старший от него…
Но над всеми бедами и жестокостями войны, более или менее обычными во все времена и у всех народов, — монгольское нашествие, тридцатилетняя война или война в Вандее тоже ведь не были увеселительными прогулками — уже поднималась тень грандиозного бедствия, которое еще тогда не было названо «холокостом»: его чудовищный размах и механизмы еще полностью не определились и станут известны позднее. Летом 1944-го Ромен с группой советских офицеров побывал в Треблинке — это километрах в шестидесяти к северо-востоку от Варшавы, куда только что пришли советские войска. А до этого, в последние дни апреля, ему довелось разговаривать с американским офицером, тем, что отдал ему свои ботинки, так что названия «Аушвиц» («Бжезинка»), «Бухенвальд», «Дахау» уже были ему известны. И накануне падения столицы Рейха, который должен был простоять тысячу лет, он имел возможность поговорить с женщинами и детьми, которых русские освободили из Равенсбрука…
— Я ведь тоже еврей, — говорил себе Ромен, сжимая кулаки. — Моя мать была еврейкой. Значит, я тоже еврей…
Пройдя через пять лет войны, он поражался тому легкомыслию, с которым тогда в Марселе, пять лет тому назад, разыграл в жребий свою жизнь. Понадобилось много времени и испытаний, пусть даже он переносил их с легкостью, если это были только его собственные испытания, которых он никогда не боялся, чтобы понять, насколько правильным оказался его выбор. Расстреливать заложников или партизан — это еще как-то вписывалось, на худой конец, в жестокие законы войны, если их можно вообще назвать законами. Но расстреливать евреев за то, что они евреи, — такое искупить нельзя было ничем.
— Все забывается, — сказал тогда Ромен американскому офицеру, прибывшему из Торгау. — И войны забываются. Но страдания евреев останутся навсегда укором миру.
Ромен был счастлив от того, что лагерь победителей, к которому он принадлежал, был в то же время лагерем правды, справедливости и добра, которое победило зло. Он обожал Рузвельта и особенно Черчилля: он один, покинутый всеми, обреченный на смерть, запертый на острове, как в тюрьме, бросил вызов Гитлеру. Он почитал Де Голля, который наперекор всему спас честь Франции в глазах всего мира. И он уважал Сталина.
Уже через много лет Ромен рассказал мне, как поразило его уничтожение двадцати тысяч пленных польских офицеров в Катыни:
— Это стало для меня еще одним доказательством дикарства немцев, хотя доказательств больше и не требовалось. Солдаты, способные на такое преступление, способны на все. А потом…
Он замолчал и махнул рукой.
— Что потом? — полюбопытствовал я.
— А потом стала просачиваться правда. Ее старались скрыть, но она в конце концов вырвалась наружу. В Катыни убийцами не были немцы — это были русские… Для меня катынское дело стало драмой дважды — трагедией с двойной отдачей, открытием наоборот. До этого я с каждым днем все больше узнавал о зверствах нацистов. Я жил среди русских, их храбрость поражала меня. Я полюбил их. Я не был коммунистом, но был расположен признать за Сталиным немало достоинств. Я ничего не знал о советских концлагерях и миллионах жертв его режима. Когда русские рассказывали мне о Катыни, я разделял их чувства. Только гораздо позже я узнал, что есть сомнения по поводу виновных в этом массовом убийстве. Честно говоря, я сразу не поверил, что русские могут быть повинны в нем. Только когда они сами восстановили правду и признались в своем преступлении, только тогда поверил и я. Для меня это стало страшным ударом. Я другим взглядом посмотрел на век, в котором живу. Мой лагерь — лагерь правды — тоже оказался способным на все. Я спрашивал себя: не является ли Трумэн, бросивший атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, тоже преступником против всего человечества? Просто ему повезло стать победителем и опередить своих чудовищных противников, которые, если бы могли, сделали бы то же самое — и еще хуже…
Читать дальше