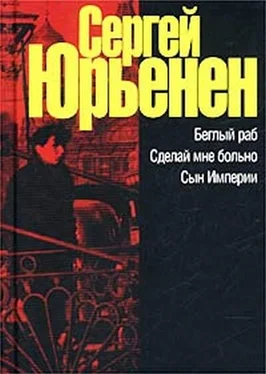— Дрофенко звали, — таким же голосом сказала О***. — О Сереже сразу я и вспомнила.
— Только его не рыба погубила. Солянка порционная, — уточнила Аглая. От маслины косточку вдохнул и умер. На глазах у всех. Все смотрели, спасти никто не смог.
Комиссаров поднял хрусталь.
— За упокой души!
Они выпили.
Аглая налила по второй.
— А эту за возвращение твоей. Ведь ты, Комиссаров, смерти, считай, в глаза заглянул. Ну, будь здоров! Живи до ста!
Они выпили.
— Закусывать-то будешь?
Комиссаров покосился на рыбу-фиш.
— Да… Знать не можешь доли своей. Я, пожалуй, воздержусь.
И захохотал со всеми — но очки на нем сверкнули молниеносным ужасом.
— Эх, дороги…
Пыль да туман.
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей…
Они сидели в номере у дам, усугубив рислинг литром водки на пятерых, и спасенный, но печальный начальник творческой группы, обнаружив внезапно новое качество, пел модерато и проникновенно:
Выстрел грянет,
Ворон кружит.
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит…
— Вокал хороший, — дал оценку Хаустов, — но, по-моему, Комиссаров, ты впадаешь в фатализм.
— Не думаю. Хотя, возможно, ты где-то прав…
— Все еще будет, Комиссаров. Все еще предстоит. Как по другому поводу говорено: фюреры приходят и уходят, а держава остается.
— Сгорим мы до восхода — вот, чего боюсь…
— Товарищ, верь…
— Какая все же нам досталась поэтика надежд! — сказала О***. — Своего слова, кажется, и не добавить.
— Ну, почему? — возразил Комиссаров. — Вот литератор с нами, он добавит. Добавишь, Александр?
— Надежды пусть питают детей до шестнадцати, — сказала Аглая. — А вы бы водки нам добавили.
— А разве не осталось? — удивился Комиссаров.
Аглая показала бутылку:
— С гулькин хуй.
— Эх, девушки-девушки. Как скажете, так уши вянут и весь энтузиазм. Молодые, умные, красивые… Не идет вам, понимаете? Распредели, Аглая, «на посошок» — и все. И спатаньки.
Кулаком тяжелым от колец Аглая ударила по тумбочке, и лампа под абажуром мигнула.
— Какие на хер «спатаньки»? Когда Рублев мой козлует в данный момент по Новому Арбату! а не то, подлюга, уже везет в мой дом на наших «Жигулях»…
— А у меня, — сказала О***, — на заднем плане никого.
— А хоть и на переднем! Равнозначно! Как я себе представлю, — взяла Аглая себя за горло, — так прямо душит кто!
— Все время мне казалось, что вы замужем, — заметил Хаустов, и О*** подняла голову:
— А у вас тоже несвободный вид.
— Всех душит, — говорил Комиссаров, разливая мимо. — Но делать глупостей не станем. Останемся людьми.
И бескрайними путями — степями, полями
Все глядят вослед за нами
Родные глаза…
Последний тост — за верность!
— А хорошо поет, садист… Ритуля, не находишь? Меня так лично достает.
— Что есть «свобода»? — сказал Хаустов. — Есть радио такое — глушат его. А кроме, Маргарита, один лишь Долг…
Комиссаров выпил и поднялся. Ополоснул стакан и поставил на стекло под зеркалом — вверх дном.
— Девчата, всё!
— Уже? Еще б попел, раз голос прорезался.
— Пора! День предстоит насыщенный.
— Если бы ночь…
— А ночью надо спать. Приятных сновидений!
— О толстом и горячем можно?
— Ну, эта сфера вне партийного контроля. Вы как, ребята?
— Беспартийных-то хоть не тревожь…
Александр вознесся, оставляя стаканом на коврике между кроватями. Морщась, Хаустов допил. Избегая невыразимых женских глаз, они сказали «спокойной ночи» и вышли в коридор, освещенный с подобающей отелю расточительностью.
Хаустов свернул на лестницу, бросив через плечо:
— Идем на воздухе провентилируем.
Комиссаров обернулся:
— Оргдела…
За лестницей на левой стене был занавес. Он свисал из-под самого потолка до ковровой дорожки — тяжелыми складками. Александр дошел до края, взялся за плюш, отвел и заглянул. Не увидев ничего, кроме провала в черноту, он ощутил себя заброшенным — как за кулисы жизни. Что подтверждали из глубоких ниш немые двери. Вместе с коридором он свернул и задержался у одной — с изящно выписанной цифрой «23».
Ни звука. Щель слева была узкой. Щеки небрито скользнули по сходящимся лакированным граням. Из номера ничем не пахло. Жаль, что не пес. К тому же, сигареты притупили.
Раздался шум, и он отпрянул.
Шагая ковровой дорожкой, он увидел в перспективе, как из лучшего номера на этаже — большой «сюиты» — выталкивают женщину сорока пяти лет. Она была голая и упиралась. Груди большие и вразлет. Живот был зашнурован в корсет с кружевами, под линией которых на фоне свежевыбритого лобка болтались перекрученные подвязки. Увидев Александра, она бросилась обратно в номер и нарвалась там на удар, который развернул ее и отшвырнул через всю ковровую дорожку на стену. Входя в свою темноту, он успел заметить, как вылетел и опустился на женщину газовый пеньюар, отороченный кроваво-красным пухом.
Читать дальше