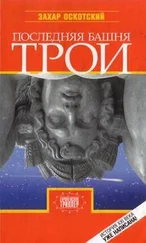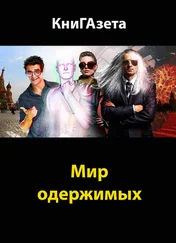— Звучит вдохновляюще, — согласился Марик. — Говорят, Эйнштейн и Циолковский так веровали. А если это — иллюзия? Если прав Джинс, и все мы — не больше, чем плесень на остывающем сгустке материи?
— Он не может быть прав, — сказал Григорьев. — И не только потому, что были Эйнштейн, Толстой, Сент-Экзюпери. Но потому, что мы с тобой, маленькие, замордованные человечки, с ним не согласны. Не согласны — и всё! Вот тебе и доказательство истинности веры.
За это выпили еще.
— Да, — спохватился Григорьев, — я же Стелле хотел позвонить. — Он набрал номер: — Стелла, здравствуй! Как дела? И у меня ничего. Слушай, я на следующей неделе в командировку улетаю, дней на десять. Но ты не беспокойся: к димкиной годовщине обязательно вернусь, и мы с Тёмой придем.
— Целую, — сказала Стелла. — Я тебя люблю.
— И я тебя целую. Я тоже люблю тебя.
— Дай-ка мне, — Марик взял у него трубку: — Стелла, привет! Катька твоя далеко? Спроси у нее: она помнит наш разговор, что надумала?.. Еще и не думала? Вот вертихвостка! Ну так пусть быстрее мозгами шевелит, не маленькая, четырнадцать лет уже. А я сказал: если только решит в технический вуз, я ее так по математике подготовлю, парней из спецшкол затопчет.
— И по физике, и по химии, — подсказал Григорьев.
Марик кивнул:
— Вот, и физик с химиком у нее персональные будут. Конечно, конечно. Будем приезжать и заниматься. Да, как когда-то с Димкой. Не за что еще благодарить! Лучше мозги своей лентяйке прочисти!
Марик положил трубку, а Григорьев открыл новую бутылку и разлил вино по стаканам:
— Давай, всё же выпьем, Тёма, за наше героическое поколение. Ведь если вдуматься, мы — безвестные герои. Мы даже никому, кроме друг друга, не можем рассказать о нашем подвиге. Потомки будут изучать то, что после нас останется — газеты, книги, фильмы, — и ни хрена не поймут. Представляешь? Если даже мы выкрикнем правду, и этот крик не потонет во времени, и его расслышат, — всё равно не поймут! Чтобы понять, нужно было прожить вместе с нами и как мы. Собственными легкими нашим воздухом дышать — день за днем, десятками лет. И наше мужество тайное нести в себе, когда всё внутри нестерпимо горчит. Несмотря ни на что, бесконечно, бессмысленно — нести! Мужество — просто оставаться честным человеком. — Григорьев поднял стакан.
— Погоди! — сказал Марик. — Это ты у нас романтик, а я — нет. Романтику из меня давно выбили в отделах кадров. Ты наше геройство превозносишь, потому что до сих пор на какие-то перемены надеешься. Хотя бы подсознательно. Вот, мол, изменится система координат, и в новой системе, если не другие нас, так мы сами себя высоко переоценим. Элементарная психология! А вот я лично никаких перемен уже не хочу. Ты сам ключевое слово произнес: БЕЗУМИЕ. Слишком много его за эти десятилетия загнано внутрь, все клеточки им отравлены. Посмотри на улице: чьи портреты за стеклами машин? То-то! В прежнее время Гагарина и Титова наклеивали, а теперь — Сталина. Понимаешь, чего я боюсь? Пока всё идет как есть, пока правят эти старики с совиными лицами, они хоть видимость пристойности будут поддерживать. А при любом повороте с накатанных рельсов, чуть всколыхнемся мы, порвется тонкий глянец, и наружу прежде всего другого полезет именно безумие!
— Ну тебя к черту! — сказал Григорьев. — Раскаркался.
— Ничего, — усмехнулся Марик, — ничего. Я только поясняю, почему мне не хочется, чтобы романтики вроде тебя докликались до перемен… Может быть, ты и прав насчет нашего поколения. Особенные мы. По литературе, помнишь, проходили «лишних людей»? Так вот, мы — единственное в своем роде лишнее поколение. А ты давай, и дальше нами восхищайся, какие мы добросовестные и самоотверженные. — Марик поднял стакан и голосом ведущего из передачи «Что? Где? Когда?» провозгласил: — Внимание, правильный тост! Хай живе товарищ Черненко!!
— Быстрей, быстрей проходите! Занимайте места! — покрикивала из полутьмы самолетного нутра немолодая полная стюардесса.
Двадцать лет назад, в шестидесятых, она была, наверное, юна и ослепительна, как все стюардессы той начальной реактивной поры. Их тогда воспевали — в стихах, в романтических пьесах. Аля бы высмеяла эти стихи и пьесы. Ему самому они кажутся теперь наивными. А тогда — щемило.
В его билете стояло место 9Б — на обычных лайнерах среднее из трех. Но на этом самолете в девятом ряду у перегородки салона оказалось всего по два кресла с каждой стороны. В соседнем, 9А, у окошка, сидел мальчик лет пяти. Он внимательно посмотрел на Григорьева и сказал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

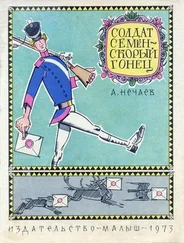



![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/70354/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery-thumb.webp)