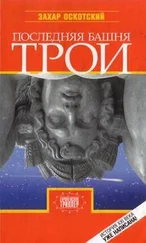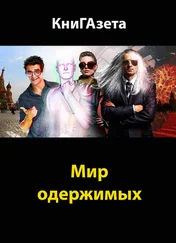Со встречных эшелонов видят нас на платформах, кричат, голоса стараются веселыми сделать: «Оттуда? Ну как там?» Кричишь что-то в ответ, тоже норовишь повеселее. А у самого горько так в груди: несет ребят в огонь, а ты им не можешь главного крикнуть, что знаешь. Того, на чем сам держишься, того, с чем погибать им было бы легче. Права не имеешь, да и не сумеют они понять… — Отец тяжело дышал, усталый.
— Папа!
— У вас всё по-другому. Не знаю как.
— Папа!
Григорьев наклонился к отцу, стал целовать в щеки — холодные, невыбритые, колющие. Вдребезги рассыпалась игра, и не осталось ничего, кроме прорвавшейся горячей боли, кроме вечного человеческого крика: «Не уходи, отец! Не уходи!»
— В Уфе не будешь? — спросил отец.
— Нет.
— Коля там умер. Всё приглашал меня приехать, в садоводстве у него погостить, как на пенсию выйду. Так я и не собрался. А на днях письмо от его жены получил… В прошлом году Семен, в этом — Коля. Оба от сердца. Нас теперь из всего расчета, из двадцати человек, трое осталось: я, да Володя в Свердловске, да второй Коля, тот что в Ростове.
— Папа!
Рука отца, когда-то такая сильная, теплая, а теперь — просто тяжелая, с трудом несущая собственную тяжесть, легла ему на голову:
— Что сделаешь, сынок. Бьют по нашему квадрату.
Григорьев смотрел на отца. Тот чуть улыбнулся ободряюще. Ни слова не было сказано о главном, но всё подразумевалось, молчаливо, надежно. И то, что сын, где бы и сколько ни был, всегда будет ежедневно звонить. И то, что, если ударит беда, он откуда угодно, хоть из Владивостока, в тот же день, самолетом, быстрей самолета, домчится домой.
— Ладно, — сказал отец, — не вешай нос. Лети, куда собрался. Тебе свое дело делать надо.
— Первый салон, с первого по девятый ряд! — донесся обычный выкрик, и началась посадка: пассажиры, давясь, полезли вверх по трапу. Девушка, оттиснутая к перилам, едва успевала выхватывать посадочные талоны. Григорьев охотно пропустил бы всех, но в этот раз его место было как раз в носовом салоне, в девятом ряду.
Он пробился сквозь толпу, забухали под ногами металлические ступеньки. Выше, выше… Аля, должно быть, уже доехала на автобусе до метро. Спускается на эскалаторе. А может быть, прежде чем спуститься, звонит из будки телефона-автомата. Лисья мордочка. Трубка возле уха. Круглые темные глаза невидяще смотрят сквозь стекло на ярко освещенный Московский проспект, на потоки людей и машин. Она вслушивается в длинные гудки. Звонит подруге, к которой поедет. Или — новому другу…
А неделю назад у них с Мариком была их обычная встреча. Сидели вечером в квартирке у Григорьева и пили сухое вино.
— Давай, о политике не говорить, — предложил Марик.
— Давай! — согласился Григорьев.
Но ничего не вышло. Запрет рухнул еще до того, как выпили по первой, когда только открыли бутылку, очистили и нарезали кусок сыра. Лохмотья сырной оболочки нужно было куда-то девать. Григорьев принес газету — завернуть и выбросить. А в газете красовалась огромная, в полстраницы, фотография: Генеральный Секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета Союза ССР Константин Устинович Черненко в цехе московского завода «Серп и Молот» беседует с рабочими. Вид у Константина Устиновича был ужасный: с раскрытым ртом и выпученными глазами он запрокидывался назад, словно его только что ударили в живот, и он, задохнувшись, валился на спину. Стоявшие вокруг молодые рабочие улыбались. Казалось, они потешаются над несчастным, больным стариком.
— Черт знает что! — разозлился Григорьев. — Зачем такого доходягу поставили, зачем издеваются над ним и над нами!
— Тебе-то не всё равно? — отозвался Марик. — Ну, посадили бы другого, для нас с тобой что-то изменилось бы?
Худое личико Марика с втянувшимися щеками казалось вырезанным из темного дерева. Шевелюру он теперь отрастил основательную, даже на первый взгляд легкомысленную для своих лет и своего учительства. Зато проволочные кучеряшки, охватив голову круглым черным шлемом, надежно скрывали плешивость.
— Не могу смотреть, Тёма! — кипел Григорьев. — У меня была моя страна. Было чувство реальности, земля под ногами. Была победа в войне, первенство в космосе. А теперь, черт, лезет кислый дым какой-то, подмена. Я скоро пятнадцать лет, как везде мотаюсь, смотрю — и думаю, думаю своей замороченной, невыспавшейся головой. Всё не такое! Не та наука, не та промышленность, не та литература. Всё — будто временный эрзац, только ставший нескончаемым. А люди-то, люди — настоящие! Это какой же запас добросовестности в нашем народе, если мы до сих пор не развалились!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

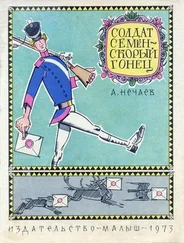



![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/70354/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery-thumb.webp)