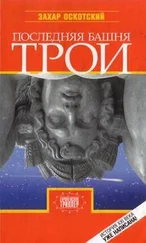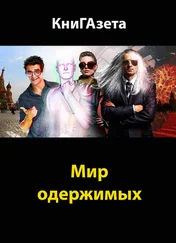Он замечал изумление окружающих, пытался сдерживать себя, и ничего не мог с собой поделать. Возбуждение пересиливало. Казалось, вся неизрасходованная страстность, скопившаяся за долгую жизнь у него, обделенного любовью и не признававшего любви, вдруг прорвалась в его кровь.
Тюренн, успевший уже вторгнуться в Германию и взять Бонн, спокойно поджидал на выгодных позициях имперскую армию, которая, — ему это было известно, — быстрыми маршами двигалась в прирейнские немецкие земли. Тюренн думал, что идет обычная война, ему и мысли не приходило, какой порыв сейчас окрыляет его давнего соперника. Тюренн готовился к обычному сражению, и когда началось не просто необычное, а необыкновенное, — не сразу понял, что происходит.
Именно потому, что Тюренну хотелось решить дело сразу, одной битвой, австрийский полководец не кинулся с марша в бой, а угрожающим обходом заставил французскую армию сойти с укрепленных высот, втянул в маневрирование — и закружил…
Мир не видел еще действий, подобных тем, что совершали в кампании 1673 года австрийские войска, подгоняемые своим неистовым фельдмаршалом. Это не походило на обычные броски, маневры, удары, уклонения, из тех, что вынашиваются в генеральских умах, обсуждаются и просчитываются штабами, вычерчиваются в разных вариантах стрелками на картах. Это было гениальной импровизацией и вдохновенной игрой.
Так испанский матадор на песке арены играет с быком. То отвлекает его внимание, то дразнит и разъяряет, наносит мелкие раны. Заставляет метаться, терять силы, всё больше и больше подчиняет своей воле. И наконец, испытывая уже почти нежность к обреченному, но всё еще опасному зверю, совершает последний молниеносный выпад смертельным клинком.
Этот последний выпад — наступательный удар, который должен был завершиться разгромом французов, не достиг цели. Тюренна спасло чудо, а вернее, решимость отчаяния. Тюренн понял, что его армию, уже загнанную в ловушку, отрезанную, лишенную провианта и фуража, в случае битвы ждет не просто поражение, а гибель. И судорожным рывком, бросив остатки обоза и тяжелые орудия, французская армия вырвалась из капкана. Голодающая, оборванная, под полившими осенними дождями, оставляя в разоренных ею самой немецких деревнях больных и умирающих, побежала к спасительным переправам через Рейн. Оторвалась, ушла…
Фельдмаршал Монтекукколи возвращался в Вену усталый, но успокоенный, почти довольный. Конечно, жаль было, что французский проказник сумел ускользнуть, но, если подумать, сделано не так уж мало. Тюренн почувствовал его превосходство, а французская сила — подорвана. В следующем году французы уже не сунутся в Германию, будут ждать имперского удара. Он, Монтекукколи, этот удар нанесет, и нанесет, конечно, в Эльзасе. В том самом Эльзасе, что достался Франции по Вестфальскому миру. Всё же, судьба благосклонна к нему. Следующим летом он разобьет Тюренна и возвратит Империи исконно германский Эльзас. А потом — хоть на покой, хоть в могилу.
Но оказалось, он переоценил милость судьбы, и самое тяжкое испытание в жизни ему еще предстояло вынести.
Зимой, на отдыхе, в своем замке вдали от Вены, он получил с обычным курьером императорский указ… Нет, не об отставке. Его просто переводили из действующей армии в резерв, «до особого распоряжения». Главнокомандующим в кампании предстоящего года назначался другой.
Это был удар пострашнее удара той шведской пули, что когда-то в молодости выбила его из седла. Потрясенный, он неподвижно сидел в глубоком кресле. Что там наболтали молодому императору придворные искусники? Сумели убедить, наверное, что фельдмаршал Монтекукколи стар и нерешителен. (Слыханное ли дело: провести целую кампанию в одном маневрировании, без сражения!) Что он бездарно позволил французской армии уйти. Что он вообще уже ни на что не годен и должен дать дорогу более молодым, энергичным. (А Тюренна, говорят, в Париже восхваляют. За то, что спас остатки армии. Тюренну всё на пользу.)
Так или иначе, это было крушение. У фельдмаршала разболелась голова. Гулко, пугающе заколотилось сердце. Он сразу ощутил свой возраст. Почти шестьдесят шесть, мафусаилов век, тем более — для солдата. Вот всё и кончилось. Что ему остается? Только смириться. Смириться и доживать.
И еще — писать книги. Он уже написал несколько. Воспоминания о своих походах, рассуждения о военном искусстве. Может быть, успеет написать еще одну-две. Книги, только книги его и переживут. Ненадолго. На несколько десятилетий, самое большее — веков. Он ведь так и не стал ни Ганнибалом, ни Велизарием, его победы не могут сравниться с Каннами или взятием Рима, близкие потомки еще будут помнить о них, а дальние — забудут наверняка. И мысли его о тактике, стратегии, штурме крепостей тоже устареют. Потому что будущие алхимики изобретут какой-нибудь сверхмощный порох или научатся плавить сверхпрочную сталь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

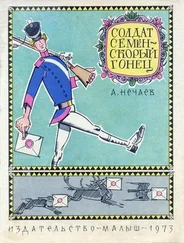



![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/70354/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery-thumb.webp)