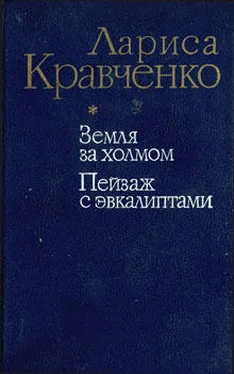В дороге, как нигде больше, приходит к нам ощущение огромности нашей земли и ее красоты… Как хорошо, что она — здесь! А могло этого не быть, если бы не та ночь, сорок пятого года, с восьмого на девятое августа. И страшно представить, как бы она жила тогда? Страшно, наверное, прожить жизнь и так и не увидеть своей земли? У каждого человека есть его единственная Земля, и он должен быть с ней, даже если ему трудно…
В Чите отстал от эшелона Алик из их вагона. Виновата была слишком длинная очередь за мороженым. Алику в его четырнадцать лет просто невозможно было не попробовать отечественного мороженого! Эшелон пошел, Алик долго бежал за ним и, хотя из каждой теплушки к нему протягивались руки, запрыгнуть не сумел. Алькиной бабушке стало дурно, и ее поили валерьянкой. Алик догнал эшелон на пассажирском и был в диком восторге от вагонов — цельнометаллических! Умаявшись от волнений, бабушка уснула, и ее чуть не вытряхнуло на ходу из поезда — отодвинулась вторая дверь, которую все считали запертой, и бабушку едва успели подхватить вместе с раскладушкой.
Станции, станции, сколько их на великом сибирском пути! Эшелон с ходу пролетал одни и сутками стоял на других. Замирал перестук колес, и все поспешно хватались за сумки и бидончики. Как первооткрыватели, осваивали икру из частиковых рыб в пестрых консервных банках и частные варенцы на базарчиках.
О, эти станции на пути эшелона! На их перронах, как скорлупа, слетали с людей наслоения привычек, привитых жизнью оседлой, предрассудками наделенной.
Остановился эшелон. И из обычного товарняка вдруг вываливается толпа, пестрая от китайских кофточек, и устремляется наперегонки на вокзал, на приступ — в очереди.
— Откуда вас столько? Это не для вас, это для пассажирского! — кричит испуганно продавец у хлебного лотка.
О, вокзальные умывальники и кипятильники, спасибо вам, первым на русской земле умывавшим и поившим паровозной сажей запорошенную не одну тысячу эшелонных пассажиров, лета пятьдесят четвертого — пятьдесят пятого: репатриация из Маньчжурии на целину…
— Людской поезд семьсот двенадцатый отправляется с пятого пути, — объявляет хриплое радио.
Машинист дергает состав. Гремят подвесные лесенки. Харбинская дама, платочком повязанная по-дорожному, прыгает через стрелки, роняя из сумки румяные баранки.
Юрку она видела в последний раз на станции Татарской — эшелон расцепили и повернули на юг — пять вагонов, по ровной невеселой степи.
И словно оборвалось что-то — потеря реальная и окончательная. А не главным оказалось то, что с ним Ирина, и, видимо, так и будет до конца дней его, а сам он — самый последний близкий ее, растворившийся в огромной России, как некогда Миша. Только Миша оставался тогда с ней, как кусочек тепла, и можно было с этим жить дальше. (И кто, как не он, может быть, первая причина тому, что она здесь сейчас — в эшелоне, и степь — за дверями теплушки?)
Почему-то стало холодно — низко на горизонте висели слоистые синевато-серые облака, и все стали вытаскивать из чемоданов близлежащие кофточки и куртки. Неужели здесь всегда так холодно? (Конец июня, и в Харбине сейчас купаются в Сунгари.) Или это потому что — Сибирь? Настроение в теплушке падало вместе с температурой.
У Лёльки под рукой ничего теплого не было. Она сидела нахохлившись на своих нарах и ноги засунула под одеяло… Сейчас, когда восторженный переезд границы позади, цель достигнута и Родина, отвлеченная Родина, обрела наконец конкретные черты, Лёлька почувствовала, как страшно она устала. От двухнедельного качания в продутом сквозняками вагоне, от постоянного присутствия чужих, случайно собранных, людей и еще от неизвестности. Скорее бы оно было, место назначения — какое угодно, только скорей!
На Татарской Лёлька сбросила маме в почтовый ящик первое грустное письмо. Конечно, не нужно было бы расстраивать маму. Она понимала это, но удержаться не смогла.
«…я не знаю, куда нас везут… Все степь да степь…»
Долго стояли на какой-то станции у кирпичной водокачки. Женщина в плюшевой жакетке несла ведра на коромысле, осторожно ступая по грязи резиновыми сапогами. Ветер хлестал по ногам светлой ситцевой юбкой.
И опять была степь — иногда зеленая, иногда голая, такая ровная и беспросветная! Степь Лёльке не понравилась. Она отворачивалась от нее носом к стенке и пыталась заснуть: «Сегодня наверняка еще не приедем».
Почему-то долго не темнело. Поезд шел, а небо оставалось белесым, чуть желтоватым с краю под облаками. И было непонятно — день или уже вечер? Всю дорогу от Байкала вот так долго висело светлое небо и путалось время — местное и московское. Лёлька вначале думала — это потому, что они догоняют солнце и оно не успевает от них закатываться. Или, может быть, в Сибири белые ночи, как в Ленинграде? Странно, раньше она об этом не слыхала.
Читать дальше