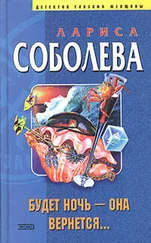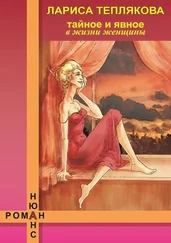Мне все не нравилось: я как есть, жизнь как есть, устройство мысли как есть и вообще как есть.
И никакого выхода из этого не было: ни из дому убежать, ни на небо улететь, ни превратиться в недосягаемую тьму.
Только умереть, а этого нельзя было никак. То есть, наверно, как-то можно было бы, но страшно. Под машину, там, попасть или утонуть в Саларе — соседней мутной речке с крысами. Даже сама мысль о крысах, их мокрых мохнатых холодных спинках вызывала тошноту и некрасоту.
А сознательная смерть должна быть красивой, чтоб хоть как-то за уныние вознаградиться. Лететь в пропасть в белом платье, помахивая рукой, как крылом ласточки. Или в бурном чистом горно-потоке тонуть, помахивая рукой, как плавником золотой рыбки. Или пламенем возметнуться, как куст в старинной книге, которого никто не видел, но пересказывали как воочию. В общем, чтоб у других оставшихся замирало сердце.
Прекратить смертный грех уныния можно было самосмертью, но и это был грех ничуть не лучше. Неприведигосподничная жизнь, иначе не скажешь, и смерть такая же.
Бабушка этого пугалась и не одобряла еще больше, чем уныние, которое она считала бездельем. Если усердно вышивать розочки и делать утреннюю гимнастику с водными процедурами, то никакого уныния не будет.
Ну вышивали, ну умывались, а уныние не проходило. И печаль была от ветерка и журчащей воды, и от облаков и дождика, и от кинов с красивыми платьями и лошадками. И от часотиканья тоже возникала и не проходила от вышивания.
— Зажралось поколение! Мы кору глодали! А они грустят, видите ли.
А от стыда за грустение веселей, что ли? Вот и без Бога грустить грешно, и с ним грешно, и вставать утром, и в школу идти, и про героев читать…
Играешь, кушаешь, даже если мороженцо, а внутри грустно. Бежишь на войнушке с криками ура, а внутри сидит этот печалевидный ком и наблюдает: беги, ори, дурочка, вечером догоню в темноте…
* * *
Почему взрослые всегда подозревают детей в плохом? Сидя за столом, надо держать руки так, чтобы всем были видны. А если на коленях, то взрослые думают, что в попе ковыряешь, да? Пиписку зря трогаешь, да?
Почему нельзя сидеть в туалете сколько хочешь, даже если никто в очереди не стоит? Что, они думают, можно делать в туалете такого, чтобы осудить и запретить? Все газетки разорвать? Как-нибудь особенно напачкать? А может, просто хочется посидеть взаперти, без никого, ничего не делать… чтобы никто не гонял заниматься полезным для сейчас или для будущего, которое всему человечеству пригодится?
Ведь дети не бывают одни. Только в ванной можно кривляться, только в туалете можно раскачиваться, только в темноте можно тихо танцевать руками.
Как несправедливо, что в голове есть свобода, а деть ее некуда, не протиснуть в жизнь между пользами, целями, просвещением и самоотверженностью.
* * *
Это, боюсь, неправильно — приходить к взрослой ответственной жизни из детства. Это большое разочарование, недоумение и обида.
Лучше уж с другого конца, с конца старческой покорности, которую обычно принимают за мудрость.
Важно выбрать в старости правильный момент для этой зрелой активной жизни. Когда еще не впал в детство или в полное равнодушие. И быстро побежать назад.
Нельзя человеку после детства жизнь доверять. Он еще смутной радостной веры не лишился, через лишение ее он идет к холодному чувству цели.
А потом опять к вере в ненапрасность, а это главный обман души — ненапрасность. Тут требуется астрономическое знание не подпускать — про бесконечное-холодное, про темную пустую пыль в необъятном времени.
В любом случае закончится так, что костей не соберешь.
И когда уже вроде как соединились жизнь и мысль, чувством управляешь в сторону удовольствия — осталось всего ничего: скользить по склону, тормозить сладким обманом неуемное время…
Не смотреть вперед — это и называется благодарность жизни?
Тут и Господа помянуть не всуе…
* * *
Они в тишине детской жизни зреют, эти немедленные мысли.
Время — вот он, главный враг детской воли, главный страж тюрьмы благих намерений, спокойствия и защиты.
— Уйдите, воры моей свободы… я сам…
Любящие не отпускают — ради него, ради самого же, простодушного…
— Побудь подольше с нами, пригрей нас своим детством… Мы старые уже, уйдем, скоро покинем и тебя, и себя покинем…
Тебе еще останется вспоминать, это тоже жизнь — воспоминания, живая, подвластная тебе ткань времени…
Читать дальше