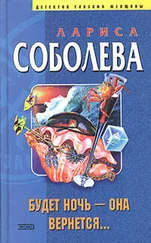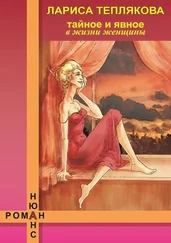В какой-то обычный весенний день он пропал.
На мосту нашли его тележку.
Когда к лету вода в реке спала, обнаружили самого Утюжка: за пазухой и в котомке — кучка камней.
Не мог он сам дотянуться и перевалиться через перила моста. Кто-то помог ему, оказал последнюю милость.
* * *
Вот говорят, индийские фильмы, мелодрамы, Шекспир, где все умерли, или «Риголетто» какое…
Так вот, в Ташкенте в 1954 году родился мальчик. В интеллигентной, как принято говорить, еврейской семье. Ученые, там, врачи… папы у мальчика официально не было, по сути вполне был — его дедушка, пока не умер.
И мама была, пока не умерла, продолжилась бабушкой, пока та не умерла.
Потом тетей, пока та тоже не умерла, потом опять по сути папа появился — дядя, пока не умер.
Потом все умерли, а ему двенадцать лет. Отдали в Суворовское училище, продвигаться по музыкальной части. Сбегал два раза. Ловили. Не били, пытались объяснить, что для его же блага — кров, хлеб, казенная шинель…
Сейчас уже лысый, наверно, если жив.
* * *
Почему ее звали Этель Львовна? Она была настоящая англичанка, на каком-то очередном Интернационале познакомилась с русским и вышла за него замуж в 1936 году и сразу по приезде… правильно, угодила в лагерь как член семьи расстрелянного.
Исключительное однообразие советской жизни в лагере не сломило Этель, она как-то пережила это и оказалась в пятидесятых годах в Ташкенте, что было очень хорошо, тепло и в какой-то мере сытно.
У нее бывала мысль — доехать до Москвы, пойти в посольство, вернуть британское гражданство, уехать на родину и найти свою семью, но ни сил, ни денег уже не было. И не было смысла в неежедневных целях. Борьба за то, чтобы не умереть сегодня и дотянуть до нар к ночи, меняет сознание. Оно становится Божьим в самом смиренном смысле этого слова, как птицы небесные… нищие духом, блаженные, хромые и прочие, где нет места ни гордости, ни ценности, ни Духу Божьему внутри нас или них…
Короче, Ethel стала Этель Львовной в комнатке типичного коммунального ташкентского дома: темноватая комната и общий двор. Ну конечно, во дворе стол с клеенкой, сортир, колонка для воды, излишнее братство, обиды туда-сюда, прощения с пирогами…
Она учила меня английскому языку и отказывалась брать деньги, потому как я была из семьи репрессированных.
Мне в детстве казалось, что все бывшие лагерники и арестанты дружат с моими стариками, собираются у нас в доме, и неарестантов и нелагерников — только сапожник и лепешечная торговка. Что все, кто умел читать и писать, сажались в лагерь, это было совсем не так: в лагерь сажались и неграмотные.
Как-то раз меня послали за луком, и я заблудилась. Меня привели к дому со словами: «Она, наверно, из „репресивых“, говорит гладко».
Они надоели мне уже. Они, арестанты эти, приходят ночами, они вторгаются в мою жизнь, затмевая мои собственные горести. Отнимают у меня МОЕ прошлое, затягивая его своим. Я чувствую себя репрессированной самозванно.
Уйди от меня, ужасное слово. Освободи меня!
* * *
— Я еще в Одессе так сидела на рынке! И никто мимо не проходил. А как же, страшно впереди, хочется судьбушку узнать. Цыганькам не верит никто, врут они, а я правду говорила.
Я Рохе так прямо и сказала — умрет у тебе младенчик. Так она посмеялася, ну он и задохся внутри. Потом же ходила до мене космы дергать. И глаз выбила. Ее ишо милицанер забрал. Но с горя отпустили. Она на мене порчу насылала, а мене порча не берет.
А я шо? Я виноватая, шо карты легли? Кто мене эти карты ложил, с того и спрос. Я у Бога почтарка. Он стасует, а я скажу.
А как злое не говорить? А шо вот я ей должна гадать? Шо родится у тебе младенчик живехонек? Она же придет мене глаз бить, скажет, врала как цыганька.
Или вот Матька, пришла, когда война была. Грит, про мужа скажи. Раскидала я карту, а там он неживой. Говорю ей: не жди. И денег не возьму, и хлеба даже. Не жди его. Так и вышло.
На войну гадать легко — живой-неживой. А тут приходят: в лотерею выиграю? Квартиру сменяю? Разве Божье это дело на мелочь смотреть? Или, грит, мне его сгуби как-нибудь! Сгубить — это не до мене, за колдовство до злодеек идите.
Я не мешаюсь. Как карта ляжет: кому плясать, кому помирать.
* * *
Старик-сосед не любил 9 мая.
Старался не выходить из дома, задергивал занавески, закрывался в комнате.
Иногда досаждали пионеры, приходили с цветами, звали в школу. Однажды пошел, приколол ордена, медали, как полагается. Достал фуражку из шкафа, помялся, надевать не стал.
Читать дальше