Немец подвел меня к двери, на которой было нацарапано «5», долго ковырялся в несмазанном замке, наконец открыл и приглашающе бросил:
— Марш!
Комнатушка-развалюха. Без излишеств. Старый стол, старые стулья, старые продавленные койки. Чьи-то обноски в стенном шкафу, заплесневелые объедки в холодильнике. На отставших от стены обоях написано карандашом: «Здесь была Аня с красивыми глазами». Осыпающийся, в трещинах, потолок. Вообще заметно, что Юмжагин прошел.
Две койки небрежно застелены грязными покрывалами. На третьей, у окна, лежала стопка застиранного белья. Немец-управдом швырнул туда на белье ключи — значит, моя. Строго достал из шкафа висящую на плечиках полосатую пижаму с такими же штанами, извлек из их заднего кармана полосатую же шапочку:
— Тут носить.
Выволок из-под кровати грубые деревянные башмаки:
— Тут ходить.
На пороге, уходя, он обернулся и добавил, абсолютно чисто, с мягким сарказмом:
— Не лакать водку языком — разве вы не люди?
Я поставил мокрый чемодан к теплой батарее — сушиться, а сам отправился первым делом обследовать отхожее место, замерить уровень тутошней цивилизации. Хотя и так уже все понятно!
Сортир не блеснул нежданным великолепием. Он был един для всех — баб, мужиков и андрогинов. Мечта Рабиндраната! Хлипкие стенки кабинок, заляпанные пальцами, которыми предварительно подтирались. Несказанно грязный унитаз, над которым наверняка трудились специально нанятые люди, любители Дали в июле, потому как дилетанту так не суметь. Эстеты, падлы, мирискусники! Повсюду окурки в помаде, огрызки в томате, вата в кровавых сгустках… Не-ет, только в ведро, в личное, домашнее, комнатное ведро! И ночью на улицу выплескивать, под шум дождя.
Я не стал засиживаться среди миазмов и выскочил в коридор. О ту пору из своих комнат высыпали аборигены. Эмигранты имманентные зашуршали в камышах! Повыползали из нор и щелей корявые старушонки, дожевывающие небритые квазимоды в болтающихся сзади подтяжках, патлатые засаленные бабищи. Все это воинство, окружив меня, плоскостопо топталось, размахивало лапами, глазело и галдело.
Косоглазая усатая дебелая женщина-мать, за подол которой цеплялся рахитичный кривоногий олигофрен, звалась Полиной. Мужик ее, как успели мне тут же нашептать, затерялся в процессе переезда. И теперь она, озверев, лютовала в местах общего пользования. Коренастый жлоб с перебитым носом и расплющенными ушами откликался на звук Лева. Жинка его с выводком сидела на хате, в Могилевской губернии, а он тут топтал крытку, сшибал марки. («На хозяина работал? — спросил он меня сипло. — Давно откинулся?»). А также: лысый, малость свихнувшийся Сеня, собирающий на помойках выброшенные телевизоры и уже заставивший ими всю свою каморку до потолка (задарма!..), супружница его бородавчатая Елена и сын их Женька-дебил, как Иов — весь в нарывах. Хромой Самуил, торговец неходящими часами и сломанными велосипедами — седовласый пройдисвет с ликом библейского пророка, непрерывно несущий сущие глупости. Некий одетый в халат бывший житель Ташкента, которого все так и звали — Ташкент, на прошлой неделе совершивший в ближнем супермаркете кражу банки сосисок ценой в 1 марку (был застигнут, связан и доставлен в лечебницу, ныне отпущен и ходит, приглядываясь, на свободе). Заикающийся массажист Юра, в прошлом филолог и стихослагатель, с волосатыми руками душителя (чуть не померший с голодухи в Харькове, а теперь, в этом дворце, отжирающийся и прячущий под матрас, а главной его пищей, надо полагать, стал плод с мучнистой мякотью, заключенный в трехгранную скорлупу). Бородатый тучный Иосиф из Бендер, купивший автомобиль за десять марок, посадивший в этот драндулет своих братьев и немедленно свалившийся в кювет, почему и залеплен пластырем и ходит на полусогнутых, волоча руки по земле. Какие-то бесформенные тетки с Черновцов, жрущие пальцем смалец из кринки и лепечущие о нашествии на общую кухню в третьем году от Приезда мохнатых рыжих пенисов-летяг, так и бьющихся в окна. А также Сашка Первый, великий и ужасный, «первый из жидовин, сюда завезенных». Он, как старожил, уже обжился, выучился читать по слогам, встал на ноги, имел арбайту: когда важный местный Рихард работал над железом, гремел почем зря, он переворачивал ему листы, подтаскивал инструмент, бегал за пивом. По ночам Сашка вламывался к новоприбывшим, садился на них и ехал в сортир, где делал свое дело, а они должны были его ждать, держа в зубах рулончик туалетной бумаги. При этом он поучал: «Нас никто не баловал. Все должны в дерьмо попасть и похлебать! Варум? Дарум!»
Читать дальше
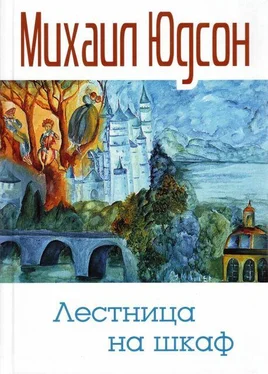



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





