Маленькая серая ящерка высунулась из расщелины, увидела меня и испуганно юркнула обратно. Напрасно. Я такой же, ютящийся. Хвостиком махнувший. Но неистребимый, вестимо.
День клонился к закату, когда я, небрежно предъявив зеленый пропуск, вошел в распахнутую калитку, вернулся в кораль. По двору бродили продубленные немцы-поселенцы из глубины руд, ковыляли пахнущие конским потом и ковылями немцы-степняки, слонялись статные горские евреи в развевающихся бурках, их смирные собратья с равнин (однако же с носами орлов) — вся эта тьмутаракань с раскосыми и жадными глазами, напоминающая абитуру, набившуюся одно время в Смольный Институт. Вертикальные варвары культпросвета, как сказал бы Ортега-и-Гассет.
Я прошел мимо двух телефонных будок, возле которых скопилась уже небольшая очередь, а изнутри доносилось: «Да, все благополучно, да! Уже устроились! Погода замечательная! Уже купались!»
Я храбро проник в лифт и нажал выпуклость «13». Лифт был чист и светел. В углу, совершенно по Башевису-Зингеру, на куче грязного белья сидел огромный негр. Нам что, по дороге? Тоже еврей, папуас этот?
— Здрав будь, — хрипло сказал негр. — Приехал уже?
— Приехал, — сказал я.
— Ты отколь — из Москвы? Ну, как там в закон-тайге? Лютуют гои?
— Да как всегда, — пожал я плечами. — Как последние две тысячи лет.
— Погромы, говорят?
— Да как всегда, в общем. Вот калиточку на даче кто-то сломал.
— Метастазы здесь сдавал уже? — задумчиво спросил зулус.
— Э-э… нет…
— Ну, удачной тебе эвтаназии, — пожелал черный человек.
Лифт медленно возносился на тринадцатый этаж, негр согнутым пальцем стучал себя по лбу и крутил у виска, бормоча: «Эфиепы!..»
Я вышел, а он поехал дальше, на крышу.
В коридоре на меня налетел Чубчик Кучеявый:
— Бегу, бегу — за шнапсом! Ближайшая лавка, где он водится, — аж за стадионом, из вредности загнали! А того не ведали, что нам три версты не крюк! Вечером заскакивай, посидим миньяном, закусим. У нас семнадцатая камера…
Чубчик мог бы мне и не называть номер своей комнаты. Вечерний звон бутылок, позвякивание столовых приборов, гул голосов, смех, вырывавшиеся оттуда, разносились далеко по коридору. Постучав, я вошел под крики:
— Рот фронт! Штрафную!
Всю семью застал я вместе — дома… Уставленный снедью столик был вплотную придвинут к двухъярусной кровати, на которой все и размещались. Сверху свисали ноги, не очищенные от носков, но никого это не смущало. Подумаешь — ужин в постель! Сколько попито в гораздо более неотведенных для этого местах! Или нам, чаю, не пить! Помню, свадьбу армейского друга Абдулина играли почему-то в коммунальном сортире — ржавые трубы, капающая вода, соседские крышки от унитаза, выстроившиеся вдоль стены, шампанское, охлаждающееся в бачке. Невеста сидела на стульчаке и курила. Запомнились также висящие над головой санки. Да, было.
Внесенный мной, как лепта, сухой паек был куда-то деликатно вытряхнут, а мне навалили тушенку, сгущенку, налили стакашек, сунули палку сухой колбасы — грызи! В углу я увидел огромный рюкзак, из которого выглядывал картонный Ящик Шнапса, притащенный неутомимым Чубчиком. Всем поклонившись, со словами: «Давно хотел я выпить простой баварской водки», я выпил. Вот дрянь-то, откровенно скажу, вот хлебнул горя! У нас в рабкоммуне у Сидоровны-Эльпит самогон слаще. И чище.
Пир шел горой, тринадцатым этажом. Все шумели и отдыхали намахавшейся душой. Со смехом вспоминали родную Ахею («Ах, Ахея!..»), где сейчас опять, наверное, шел снег, покрывая каштаны и баштаны, и белело, громоздилось льдами море за бульваром, а к теремам-многоэтажкам вели протоптанные в сугробах тропинки, пацаны лепили снежную бабу, тянулись трудовые будни, варились свиные студни, носились дворцовые сплетни, имелись свои проблемы — в песцах на улицу вечером не выйдешь (сымут), тачку возле дома страшно оставлять (раньше спокойнее было, раньше, говорят, приковывали к ней), или, бывало, едешь в общественном транспорте, то есть в подъемной клети, к себе на этаж, и обязательно начнет кто-нибудь орать: «Ду-ушно! Кругом одни, не люблю я абрамосар крючконосых!», а тебя, орясина, никто и не заставляет нас любить, твое дело, Потапыч, прийти, когда позовут, прочистить унитаз, получить рваный чирик и косолапить чесаться о клен заледенелый, но вот обидней бывает, когда ввалятся друзья, ну, не друзья, а коллеги, деловары, с которыми вместе уродуешься, посидят хорошо на крыше с шашлычком под пулечку с коньячком, а потом расходятся и каждый раз гугнят, что вот, хорошо посидели, всем хороший мужик имярекштейн, отличный мужичонка, жалко только — абрамосар, так что в конце концов не выдержишь и сверху в лестничный пролет опустевшей бутылкой в них запустишь — ничего, все вернутся опять, хвосты завернув в колечки, — нужда пригонит, экономические законы, хотя, признаться, когда иногда этакое слышишь, сразу ощущаешь себя не бородатым и бодрым амбалом, а маленьким и беззащитным, сидящим на горшке в темной комнате и ждущим, что сейчас из-под кровати кто-нибудь выползет, а кстати, как вообще из тихого вежливого создания, больше всего любившего стишки и сказки, сформировалось нахрапистое двужильное существо, — а все Андерсен Г. Х., у него где-то прочиталось — да, говорит, я прикован цепями, но я прикован ими к хлебному дереву, эх, неужели ты право, Хайгетское Чудовище, лишь торговать, вишь, удел иудея, эмпирическая его сущность, о, нет, потихоньку-полегоньку, вира помалу, преодолеем земные тяготы, свершим путешествие из Нижних Нар в Верхние…
Читать дальше
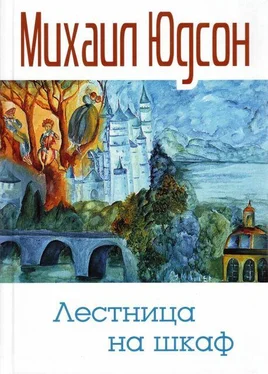



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





