Человек-свинья-гиена со Скотского Острова Оруэллса (ну, гиена — это аглицкая, для экзотики, а свинья наша, родная, и хавронья). Как учили-то: «Русь ерническое рыло зарыла в снега и застыла», «Держи смолоду голову в тепле, а ножки в холодце». Бывает, случается наткнуться на активного вепря, свирепого секача (тут надо успеть задать стрекача, бормоча, что, раздери Адонис, угораздило же родиться в трефном нужнике), гневно чавкающего во всю ивановскую, что их — с-свиномать! — оказывается, пасут, да еще по всемирному плану, сдвинув ермолку на затылок! (А вы что же, хряхи, чушки этакие, себе думали? Мир скроен по еврейским лекалам, и он значительно сложней вашего хутора и корытца, откуда есть пошла русская земля).
Кстати, вот очередное свинство — сколько можно сидеть в сортире, занимать?!
Я встал с мусорного ящика и, мягко напоминая, пошевелил вверх-вниз дверную ручку туалета. Оттуда слышалось: «Потри спинку», невнятное пенье и плеск воды. Кто это там шалит? Нашли термы…
Я снова, более настойчиво, подергал ручку. Дверь приоткрылась, и выглянул полуголый проводник, закутанный в банное полотенце, из-за плеча его высовывалась мокрая голова его собрата.
— Чего надо, варвар? — спросил проводник, надменно выпячивая нижнюю губу.
— Может, давай его? — предложила голова, обшаривая меня взглядом. — Хочешь пассажирского тела, песчатины? Для разнообразия…
— А ну-ка, бука, в попку не больно, — начал выбираться из туалета проводник, сворачиваясь кольцами, блестя мокрой, как бы татуированной кожей.
— Лови его, деревню, дави! Тримай, Толмай! — крикнул второй, но я, сорвавшись с бака, заверещав, кинулся по вагону к своему купе. Двери остальных палат, мимо которых я бежал на ватных ногах, были распахнуты, но все они были мертвенно пусты — ни людей, ни вещей. Во многих окна были выбиты и снегу намело по колено. За мной тяжело скользило, часто топало, догоняло. Едва я успел заскочить в свою клетушку и набросить крючок, как в дверь стали ломиться — заскребли пыхтелками, сопелками, клешнями, застучали многими ногочелюстями:
— Чай будете пить?
— Не буду! — крикнул я дрожащим голосом.
— Не будет он, — объяснил один проводник другому. — Арамейщина же, провинция… Орус, орясина… Ну и поехали дальше.
Я проворно вскарабкался на свою полку, забился под потолок, обхватив двумя руками чемодан. Мыльницу потерял в коридоре, а ведь какой в ней обмылок здоровый оставался, заветный, бережно хранимый — семейная память!
В соседних купе за стенками издавали звуки, слева — шлепали, укачивали, раздраженно объясняли, что пеленки снизу, под горшком; справа все пили во имя сугрева, звали: «Слышь, скорей иди сюда, погляди, вон та, с коромыслом… Слышь! Такой бабе я дал бы себя отодрать на конюшне!» — но я уже знал, уже понял, что там никого нет, манок да морок. Клюм, вакуум.
Спустя время нужда все же выгнала меня в коридор — терпежу же никакого не было! Сначала я, конечно, прислушался — никто вроде в коридоре не ползал. Тогда я решился высунуться из купе. Тишь. Мыльница моя, целехонькая, с камушками на крышке, валяется. Подобрал, сходил облегчился в продуваемом стужей промежутке между вагонами, стоя на железном качающемся дребезжащем листе.
Вернулся к себе, улегся. Глядел сквозь занесенное снегом окошко. Боже, как грустна ваша Россия. Что ни прорубь — везде колдуны с мертвым взором… И названия-то все какие жуткие — Кистеневка, к примеру. В подъезд идешь, как в Лабиринт. А уж в поезд!..
Ехали мы и ехали. Переправлялись через реку — из будки на мосту вышел и печально помахал вслед письмецом Разводящий Раввин. Закусывал холодным пирогом и жареной бараниной. Слышал, как по коридору возили тележку с судками, судя по запаху — с ботвиньей.
Картина за окном постепенно менялась — на голой ледяной равнине с редким катящимся кустарником стали появляться трещины в толще, кое-где уже проглядывала болотистая черная земля, стелились кривые уродливые деревца с белой пятнистой корой — здесь кончался материковый лед, мать его — приближались Рубежи.
Показались селения из двух домов и развалившейся кумирни, друиды вдоль дороги, начались бабки с пустыми ведрами, мальчишки с бреднями ипиявками на куканах. Видел я, как возле переезда стояло небольшое рогатое жвачное, привязавшись к колышку, объедало на ходу катившиеся мимо кустики и смотрело на наш поезд выпуклыми неглупыми глазами.
Из черного кружочка радиоотдушины, чтоб подсластить расставанье, играли мне на самогудах и читали увещевающим голосом:
Читать дальше
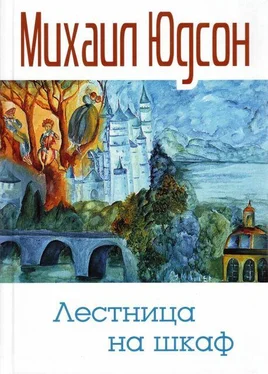



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





