— Хозяин, гой да, зай гезунд! — разудало позвал экран-коврик. — Скоро построение на обед. Бьет пищи час, разумные служить к столу бегут, кармельское несут уже… Вам пора.
— Не гони пургу, — отмахнулся Ил. — Поспеют с розами на торг.
Коврик этих сладких выкуротов не знал и сейчас наверняка памятливо впитывал. Ил же, многоопытный, гнул свое, старался при всяком случае его озадачить, расширяя лексику. И произношение ставил — по́ртфель, банга́…
Из коридора доносилось множественное шарканье сандалий обслуги — шаркуны придворные торопливо сбивались в шеренгу, — а скоро раздалось и наставительное рыканье — то дворецкий Дов проводил пасхальную летучку, «разбор полетов».
По случаю отсутствия самого владыки Дворца — прещедрого Столоначальника, Кормильца всех безгласных (прорвы ртов), супруга прекрасной синеокой Иры, хлебосола и острослова, господина финансова Натана Бен-Цви (он как раз уехал за Цфат, на гору Хермон — лечиться от горячки холодными ваннами, рваными поутру травами и кумысом) — дворецкий Дов находился «на хозяйстве» и заступал Кормильца в его решениях. А чего того унесло из дому, какая ему будет польза от кислого млека двугорбых (говорят, правда, из него усиленно кумысную водку добывают, аразовку) — Лазарь его знает! Оставил, тиран, Иру одну. Ей так невкусно — не при нем. Когда он где-то рядом бродит, шебуршит, грозит ворваться и пресечь, у нее сразу течь открывается, глаза туманятся, весна идет Исидою двурогою — Ил тогда брал и барал ее во все лопатки, драл во всех позах, во все дырки, употреблял в три погибели! Даже под мышкой у нее припухлость лопнула и лепестки раскрылись… А мужу умотавшему недаром имя Бен-Цви, Сын Оленя — рога в дверь не проходят, за притолоку цепляются… Во рога, отполированные — зов олифанта, рык тритона! Улетел, боров рогатый, покинул ненадолго — цвинья!.. Как в стары годы выражались: «Их сиятельство изволили предпринять отсутствие».
А Дов-дворецкий пока командовал безраздельно, дорвался. Был он старой закваски — кипастый, хлопотливый, словоохотливый, хитровыделанный, косолапый, левый пустой рукав засунут в карман — руку в битвах отлепантило (так утверждал) давным-давно: «Вы, Ил, тогда еще пешком под Стол ходили…» В общем, у Дова не было одной руки — у Дова была одна рука. Бич у него также имелся — по слухам, из аразских жил — с рукояткой из оливкового дерева, изящная вещица — пускал вход. С виду, ликом — рав, а так — варнак. В том же верблюжьем молоке сварит и не поморщится. При этом хозяйственник — Берл Лога, мошник! Ила он, домовито вздыхая, кликал «Неукорененный» — мол, в глазах у тебя, стольничек, неясное мельтешенье, мечешься душой, как угорелый, мнешь малину.
Ныне дворецкий безоглядно правил и был строг. Он то и дело расставлял обслугу рядком (полукружие, сей аразский булыжник — не по нам, в «Дней Книге» закодировано четко — выстроить спиральную цепочку) и устраивал обстоятельный разнос. За то, что нескладно подает котлетки тот-то и тот-то тов — давал втык. Муж брани!
Из коридора до Ила доносилось:
— Итак, кухари и поломойши, ползуны по кастрюлям! Засахаренные кры, гля, лья! Протоплазменные бестии! Истово говорю вам, нерадивые, — а солонину утрамбовали, ась? Или? Ну, архиплуты? Серебро начищено и уворовано? Что, задрожали, брюхоногие? Я вам сделаю жизнь горькою! Доску на живот! Зуз, зуз! Двигайтесь! Я вас, рахельи, тьфу, ракальи, худо-бедно кормлю-пою, учу-верчу уму-разуму… А вы, тумбы, мискогрызы… Всех поименно хлебной карточки лишим! В комнаты под комнатами загоним! В Нижний Кагал сплавим — бессрочно!
— Распекает! — хихикал коврик, поеживаясь.
— Да, — согласился Ил.
Да-с, Дов несколько суров, но на то он и Дов, ревнитель. На нем грубый балахон, подпоясанный волосяной веревкой, он босой, и он говорит. Видно, перекусил малость перед обедом, отведал блюд под рюмку, заморил змеечка и стал речист. Да и дотоле, надо сказать, не смолкал.
Дворцовая челядь — все эти украшатели еды, смотрители одежд, содержатели чистот, опрыскиватели стен — стояли смирно в узком коридоре вдоль, но не привалясь, ни-ни, лишь переминаясь с ноги на ногу, под потолком желто плавали шары-плафоны, озаряя — вся рать как один была в аккуратно выглаженных бело-голубых комбинезонах (цвета Республики), головы опущены, руки засунуты глубоко в карманы — почтительно слушали, боясь дышать. Как воды в рот набрали. Тут лишнего звука не издашь! Это Кормилец, либерал сохатый, любил, чтобы валялись у него в ногах, подвывая, стенали истошно (одно время, ох гордыня, хотел даже, олений сын, чтобы записки ему слезные писали на веленевой бумаге — с желаниями, и в щель под дверь всовывали), да и наказания у него, эстета, были под стать, изощренные — за легкую вину полагалось прочесть страницу из книги «Путь Зуз», за тяжкую — выучить из оной шесть строк. Ари-стократ цфатский, фон-Цви! Шабтай-болтай!
Читать дальше
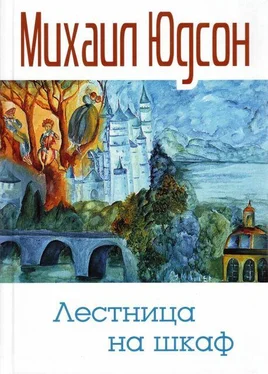



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





