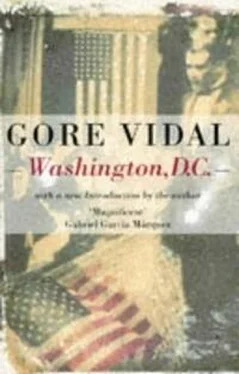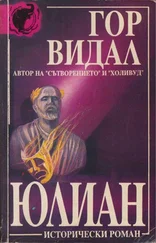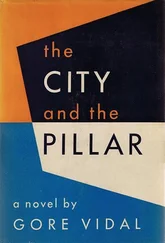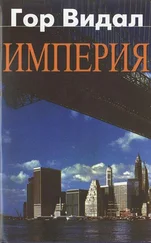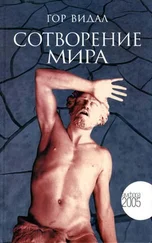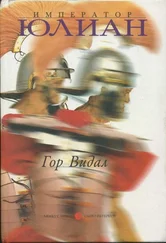Сегодня он явился рано и вышел на газон; здесь, сидя под полосатыми зонтиками, пили и болтали теннисисты и игроки в гольф, доигравшие свои последние партии. Пора бы им уже разойтись, сурово подумал Клей; в остальном же окружающий пейзаж радовал глаз: справа, за деревьями, виднелись теннисные корты и плавательный бассейн, слева, среди мирных холмов, долин и рощ, фиолетовое на фоне синего вечернего неба, простиралось вдаль поле для гольфа, такое сочно-зеленое, как на картине восемнадцатого века с изображением английского парка. В самых темных уголках рощи метались светлячки.
— Чего только нет у богачей, не правда ли?
Клей обернулся и увидел полного низкорослого человека, который пел на приеме у Сэнфордов прошлым вечером. Клей пожал коротышке руку и засыпал его горячими приветствиями, памятуя, что это один из авторов «Вашингтон трибюн», к которому особенно благоволила Инид. Вот только как его звать?
— Зачем я здесь? Сам не знаю. Может, вы мне скажете? Что я здесь делаю?В этом месте, с этими людьми?
В ответ на брошенное вскользь Клеем замечание, что загородный клуб Чеви-Чейс — «место как место», нежданно хлынул целый поток слов.
— Я терпеть не могу богатых. Я ненавижу политиканов. Я презираю расчетливых молодых людей. — Клей почувствовал, как горячо багровеет под воротничком его шея. Оставалось уповать лишь на то, что гости под зонтиками не подумают, что у него есть что-то общее с этим крайне неприятным типом, к тому же, скорее всего, коммунистом. — Больше всего я ненавижу политику. Я ненавижу президента. Я ненавижу конгресс. Особенно омерзителен Верховный суд. Мне отвратительны военные. Дипломатический корпус следует уничтожить, предпочтительно посредством отравленных бутербродов. Мне ненавистен Вашингтон, округ Колумбия, этот болотный рай, кишащий пиявками увитый ядовитым плющом, эти желудки, набитые капустой, поджаренной на свином сале, и неудобоваримой виргинской ветчиной с привкусом наростов на киле затонувшего корабля. О, моя ненависть, пошли мне красноречие! Давайте выпьем.
Последние слова были произнесены тоном настолько нормальным, что Клей едва их расслышал.
— Ну что ж, — сказал Клей, — я…
— Я бы мог опрокинуть стаканчик, это вы хотели сказать?
— Нет, — солгал Клей, вскипая. — Я хотел сказать, что я бы не отказался.
— Так, значит, я все это придумал. — Собеседник ухмыльнулся. Клей уже ненавидел его.
Они вошли в тускло освещенный бар. Каждый заказал выпить. Клей решил держаться вежливо, что бы ни случилось. Этот человек так нравится Инид… Какая досада, что он не помнит его имени, это ставит его в невыгодное положение. А этому человеку его имя известно, вот почему он, Клей, в невыгодном положении, ибо в именах заключена власть.
— Так почему же, — начал Клей осторожно, не желая давать повод для очередной речи, — вы здесь, если не любите Вашингтон?
— Потому что я слаб. Развращен. Не имею жизненной цели. Не могу устоять перед даровой выпивкой… даровой жратвой… втянут в компанию дикарей, которым я время от времени показываю фокусы: пою песенку, предсказываю будущее, напоминаю им, что государственный корабль пьян.
— А вы?
— Я нет. Рембо — тот был пьян. У вас открытое лицо, Клей. Не давайте жизни закрыть его. У вас есть политические амбиции?
— Есть. — Клей предпочел ответить твердо и кратко.
— Ума не приложу, чего вы все стремитесь к должности? Взять, к примеру, этого мошенника Джеймса Бэрдена Дэя.
— Я административный помощник сенатора Дэя.
Коротышка расхохотался.
— Знаю. И вы, конечно, ему преданы.
— Да.
— Я назвал этого вашего сенатора мошенником не потому, что он — единственный в своем роде. Я употребил это слово не в бранном смысле, да и возможно ли такое в Вашингтоне? Я лишь хотел сказать, что он такой же, как все, только более удачливый. Вам бы не хотелось служить у бунтаря, который не желает походить на остальных, так ведь?
Коротышка опрокинул в себя изрядный глоток виски. Вот уже много лет Клей не встречал человека, который вызвал бы в нем такую неприязнь.
— Согласен, у него обольстительный голос, у этого вашего сенатора. И манеры. Я изучал его вчера вечером на приеме. Он впервые предстал предо мной во плоти, так сказать. Но я его быстро раскусил. Актер! Он актер. Как он владеет своим голосом! Как расставляет ударения! Как пародирует других! Как эффектно падает интонация его голоса. В данный момент он играет Брута, но мог бы с таким же успехом сыграть и Макбета, и Лира, а при плохой удаче — и Тимона Афинского. Он может играть кого угодно, только не себя, ведь своего-то «я» у него нет. На вас наводят скуку цитаты из Шекспира? И всякие книги вообще? Я часто замечал, что любая незнакомая цитата, то есть такая, которую нельзя найти в утренних газетах, повергает вашингтонцев в замешательство и немедленно обращает в бегство.
Читать дальше