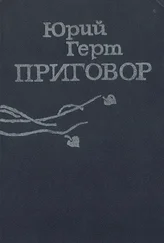Карцев позвякивал ножом о стакан, водворяя тишину.
— Как бы то ни было, — сказал Гронский, обмахиваясь платком, — судя по опыту, которым я располагаю, внушить можно абсолютно всё и всем!.. Если, разумеется, речь идет о вполне нормальных, здоровых людях.
Последние слова он обронил как бы невзначай.
Ну вот, — усмехнулся Феликс, — это уже становится интересным.
— Нормальных и здоровых… — повторил он: — Это в каком смысле? — И отхлебнул из своего стакана.
— А в любом, — сказал Карцев, опередив Гронского.
— Не думаю, — Феликс стиснул в руке стакан. — Не думаю… — Ему вспомнился их утренний спор.
— И я, — сказала Айгуль. Она пододвинулась к Феликсу вместе со стулом. — А декабристы, например?.. Они что же, выходит… Или Сераковский?..
— Между прочим, — сказал Карцев, — они ведь довольно быстро скисли, ваши декабристы… Не все, конечно, я не обо всех говорю. Но что греха таить… Мне приходилось читывать не популярные брошюрки, а материалы следствия. Очень любопытное чтение, уверяю вас. Вы читали?
— Нет, — сказала Айгуль, — только все равно…
— А вы почитайте. Они издаются, том за томом. Хотя, конечно, здесь откуда же… Ну, выписать можно по МБА — почитайте… Про Трубецкого, который в ногах у царя ползал и твердил: «Ля ви, сир!.. Ля ви!..» Или про Иосифа Поджио?.. Их два брата было, младшего Иосифом звали, а старшего — не припомню…
— Александром, — подсказал Бек.
— Верно, Бек, Александром… Так вот, в материалах этих сохранились — и письма, и записки, и допросные листы, все честь по чести, и все про то, как этот младший, который Иосиф, топил старшего, любимого своего братца, и без особой надобности топил, так — со страху… Брат — брата…
— Что же, — сказал Феликс, — читывать и мы кое-что читывали… Про Лунина, который ни у кого в ногах не валялся и ни единого имени не выдал. Про Якушкина. Про Ивана Пущина, про братьев Борисовых… Братьев, между прочим, тоже братьев… — Спокойней, сказал он себе, спокойней… И хватит пить. — Он поискал глазами, куда бы поставить стакан, и поставил на пол, между ног.
— Иосиф Поджио, — сказал Бек, — семь лет провел в Шлиссельбургской крепости, а потом жил многие годы в сибирской ссылке. Все это время он тоже вел себя достойно…
— Видите! — сказала Айгуль. — А Сераковский?.. — Она даже привстала от возбуждения, но потом опять села.
— Это кто — Сераковский? — спросил Гронский подозрительно. — Поляк?
— Поляк. Но главное в нем то, что он был русским революционером-демократом… — выпалила Айгуль. — Он, когда жил в Петербурге, был из самых близких сподвижников Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, печатался в «Современнике», а в 1863 году возглавил восстание литовских крестьян. И за это его казнили на эшафоте, в Вильне… — Она растерянно взглянула на Феликса и запнулась, явно не зная, надо ли продолжать.
— Это вы о нем рассказывали в музее? — спросил Карцев. — А не открыть ли нам эту коробочку? — Он вытянул из сетки затерявшуюся там, в дебрях привядших стрел молодого лука, коробку марокканских сардин.
— У вас необыкновенная память, — съязвила Айгуль.
— Да не жалуюсь, — улыбнулся Карцев. — Значит, о нем?.. А где консервный нож?
— И что же? — сказал Гронский. — Что ему было надо в этой Литве? Вашему Сераковскому?..
— Видите ли, — проговорил Феликс мягко, со снисходительно-разъясняющей интонацией, — видите ли, восстание 1863 года было, как сказали бы теперь, вполне интернациональным по составу. Поляки, русские, литовцы, украинцы, венгры… Даже итальянцы там были, их Гарибальди прислал. Да и сам Зигмунт отлично понимал, что только в союзе с русским народом, только в совместной революционной борьбе возможна победа над царизмом. Это все они тогда понимали — и Герцен, и Чернышевский, и «Земля и воля»…
— Так-так… — Гронский, слушая Феликса, не сводил глаз с Айгуль. — И вы говорите, его казнили?
— Его повесили, — сказала Айгуль. — Приговорили к расстрелу, но Муравьев заменил расстрел повешением… — Под пристальным, с затаенной насмешкой, взглядом Гронского ей было явно не по себе.
— Он был урод или калека? — спросил Гронский.
— Ну, что вы! — с укором, который могло извинить только неведение, произнесла она.
— Его не любили женщины?
— Ну, что-о-о вы! — тем же тоном проговорила Айгуль и снова оглянулась на Феликса. — Это Зигмунта Сераковского!..
— А что, — сказал Карцев, — Лермонтова не любили, хоть он и Лермонтов.
— У Сераковского жена была такая красавица, — с пылом возразила Айгуль. — Вы бы на нее посмотрели…
Читать дальше