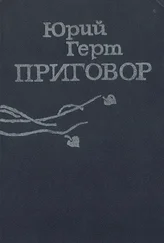Так для него начиналось каждое утро: термос, пепельница — и за окном — бледная полоска латуни над горизонтом. То время запомнилось ему как одно долгое утро… Это молодость, — подумал он. — Молодость и время…
Хотя тогда это было просто начало каждого дня, его лучший отрезок — и самый лучший, и самый короткий. Потому что уже к девяти сходились все сотрудники, а еще к половине девятого являлся Костя Крылов, «мозговой центр газеты», «инкубатор идей». Он влетал в редакцию, как сквозняк, и тут же начинали хлопать все двери, которые он не открывал, а распахивал настежь, и скрипели все хлипкие редакционные столы, на которые он опирался тощим задом, и стонали все редакционные стулья, на которые Костя неизбежно натыкался, стремительно расхаживая по редакции и на ходу инкубируя свои идеи. Все, что было предназначено для литературы, считал Костя, уже сделано Львом Толстым, сегодня полезней любого эпигонского романа короткий репортаж и честно написанная информация. И еще — рейды «легкой кавалерии»… Это был его пунктик — «легкая кавалерия». Для него и редакция была чем-то вроде мчащего во весь опор эскадрона, шашки наголо, и сам он — впереди, в разлетающейся черной бурке…
Да, подумал Феликс, все-таки главное было — время… А молодость? Он был уже не молод и почти весь седой это в тридцать-то пять лет, а все летел куда-то, в черной бурке, все размахивал шашкой, и мы за ним…
Он шел и думал о том, чем тогда они жили: пуск первой домны, размещение прибывающих эшелонами строителей, нехватка бетона, нехватка столовых, нехватка общежитий, подготовка к Московскому фестивалю, борьба с рвачами и стилягами, «выше строительные темпы!», бригады коммунистического труда, отряды ЧОНа, перевоспитание выселенных из Москвы тунеядцев, борьба за здоровую молодую семью, борьба с бесхозяйственностью, разгильдяйством, бюрократизмом и очковтирательством, борьба с пережитками культа личности… И все это казалось тогда важнее, чем литература, чем его роман…
Ну, нет, — подумал он, — пожалуй все-таки нет. Но разница ощущалась только в калибре… В калибре и в заряде, в размерах заряда. Цель была одна. И в этом все дело — что цель для всех была одна. И все это — бюрократизм, очковтирательство, прокисший борщ в столовке и простои на растворных узлах — странным образом соединялось в том, о чем он писал, хотя писал он как бы и вовсе не о том… У них с Наташей в маленькой их комнатке собиралось в то время много народа, и о чем бы ни начинался разговор, все кончалось жаркими спорами. Но почему-то особенно яростные споры возникали, когда они оставались вдвоем.
Деталь эпохи, улыбнулся он. Теперь о них, об этих спорах, смешно и вспомнить, а если попробовать описать их, то лишь в юмористическом ключе. Иначе все выйдет недостоверно, во всем будет чувствоваться натяжка. Еще бы! Тут тебе Карцев, и нечего ему возразить, а главное, что и возражать неохота… А там — после целого дня работы, ожидания, очередей за молоком и сосисками… Когда все пеленки уже постираны, а сухие отглажены, и завтрашний обед сготовлен, пол протерт, Наташа-маленькая уже спит, почмокав зажатой в пухлых губенках соской-пустышкой, у себя в кроватке, в уголке, куда не достигает свет настольной лампы, отгороженной двумя стопками книг… И полная семейная идиллия — Филемон, сидя напротив Бавкиды, читает «Новый мир» с последней повестью Тендрякова или Эренбургом, а Бавкида, с шершавыми от стиральных порошков руками, с поблекшим, съеденным маникюром на пальцах, листает ученические сочинения или составляет план завтрашнего урока по декабристской лирике Пушкина… И все так мирно, так мило, и оба встречаются взглядами, умиленно-встревоженным при легком шорохе, донесшемся из угла, где кроватка… И вот тут-то, среди всей этой безмятежности, внезапно, из-за какого-нибудь абзаца… Из-за строчки… Но строчки-то, между прочим, о Блюхере или Тухачевском, или Пастернаке, или… мало ли о чем и о ком…
Из-за строчки, из-за единственного слова — гром и молвня, точнее — не гром, а только молния, ослепительные вспышки молний в глазах, и надломленный, захлебывающийся шепот, и — «тише! ребенок спит!» и насмерть, навсегда обиженные, сведенные на переносье брови… Однажды они особенно жестоко поссорились, хотя теперь уже и не вспомнить, из-за чего именно. Зато как она убежала из дома, как он рыскал по всему городу, пока нашел ее, наконец, на вокзале, куда она пришла с твердым намерением все порвать и уехать, это он помнил хорошо. Это случилось еще до рождения Наташи-маленькой, потом споры стали менее яростными, но все продолжались — не из-за домашнего быта, не из-за тряпок или денег, тут они почти не ссорились, а все по тем же причинам — Пикассо, абстракционисты… И оба, случалось, засыпали, отодвинувшись на края — каждый на свои край диван-кровати, непримиримые, оскорбленные в самом заветном. Правда, потом, среди ночи, ему становилось до спазм в груди жаль ее, с ее шершавыми руками, с облупившимся маникюром, с ее тетрадками, исчерканными красными чернилами, ее упругим, упрямым почерком, с наклоном влево… Он видел ее ученицей, десятиклассницей, с преданностью и восторгом внимающей ему, молодому учителю, и ее письма, суховато-застенчивые, исписанные все тем же упругим, упрямым почерком, приходившие к нему в часть почти каждый день, и золотисто-зеленую, плоскую, вложенную в конверт веточку мимозы, которая открыла ему все… И он осторожно, неуверенно касался в темноте ее каменно-твердого плеча, и бормотал что-то виноватое, или ничего не говорил, не бормотал потому что их тела были мудрее всего, о чем они могли бы сказать друг другу, — мудрее, нежнее и преданней, и умели радоваться, и задыхаться от счастья, и растворяться друг в друге, и вот уже они оба тихонько смеялись в ответ на предательское поскрипывание их семейного ложа, купленного по случаю в комиссионке, и говорили сквозь смех: «О господи, когда же у нас будет нормальная кровать?.. Конечно же, успеется… Но тогда нам будет уже все равно… Нет, нам никогда не будет все равно…» И так — до серебристого ручейка будильника в черноте, до латунной полоски за окном, над горизонтом…
Читать дальше