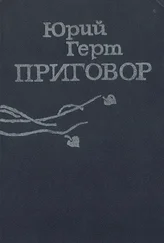Он вышел на окраину городка. Дорога здесь раздваивалась. Она поворачивала главной, широкой ветвью к видневшемуся вдалеке поселку судоремонтного завода, а узкой — огибала скалу и затем полого поднималась к белому надрезу каменного карьера, который тянулся вдоль склона. Он выбрал ту, что вела на карьер. Машины с аккуратно напиленными блоками ракушечника еще не ходили, не вздымали над дорогой клубов светлой, долго не оседающей пыли. Было тихо, ветер протяжными волнами прокапывался над бурой степью, и грудь распирало от густого запаха цветущей полыни.
Он шел по обочине, цепляя ногами сухие, крепкие, как проволока, стебли травы, и думал о том — теперь уже странном, фантастическом — времени, которое требовало ясности, графичности, жестких линий, пересекающихся под беспощадным прямым углом. В ту пору любая сложность выглядела попыткой запутать, скрыть истину. Отсюда — нетерпеливое стремление все разложить, свести к элементам, преимущественно — к двум основным, первичным, казалось, элементам: Правде и Лжи…
Ложь казалась величайшим злом, а Правда — благом, людям хотелось очиститься, отмыться от Лжи, соскоблить ее, как накипь со стенок чайника, и это делалось азартно, со страстью, может быть, — слишком азартно…
Он представил себе бутылку молдавского портвейна, которую они разопьют сегодня с Карцевым, большую, темного стекла, с раскинувшим крылья журавлем на красной наклейке… И усмехнулся. Эти бутылки стояли здесь в буфете чайной, и на полках любого магазинчика между горками консервов и кульками с крупой — точь-в-точь как те, которые у них когда-то называли «гранатами»…
Впрочем, подумал он, «гранаты» у нас появлялись редко, и пили мы мало. Зато много курили, и когда выходили из редакции, по средам, после литообъединения, то из распахнутых окон — если свет оставался непогашенным, было видно — валили клубы дыма, будто внутри бушевал пожар. Да еще если курили махорку — пачка-другая всегда хранилась у него в столе, НЗ, на случай — вдруг кончатся сигареты. И в память об армии, тогда еще столь недавней… Когда ему попадались завалявшиеся на прилавке пачки «ярославской красной» или «елецкой», он тянулся, наперекор удивленным взглядам, к желтоватым кирпичикам в грубой обертке, мягкоупругим, как дружеская ладонь. И потом, когда сигареты бывали уже на исходе, он вынимал пачку махры из глубины ящика и — в два загиба — привычно отрывал от газеты уголок и свертывал самокрутку. За ним и остальные закуривали, тем самым словно приобщаясь к чему-то, словно соединяясь в одном — важном, важнейшем, священном почти… О, черт побери, там и тогда все было серьезно, наивно и серьезно, ирония только зарождалась — да и то не у них, только долетала, как запашок дальней гари…
Дорога медленно поднималась вверх. Здесь она была усыпана мелким белым порошком, сеющимся из кузова машин, которые спускались с карьера. Трава вдоль дороги казалась припудренной, белая пыль с нее осыпалась под ногами, оседала на сандалеты и брюки, уже грязно-белые ниже колен… Феликс остановился и врастяжку, дегустируя, потянул ноздрями начинающий разогреваться, но еще плотный, густой воздух. Запах полыни… Или в самом деле в его тягучем, обволакивающем, как туман, аромате есть что-то пробуждающее воспоминания?.. Он попытался расслоить этот запах, учуять в нем дыхание других трав, но вся степь, казалось, пропахла одной полынью…
И там тоже пахло полынью, когда он спозаранок, еще пустыми улицами шел в редакцию, но порывы степного ветра помимо полынной горечи доносили множество как бы вплетенных в нее запахов. Это был маслянистый, жирный запах мазута, и запах ржавого, влажного от росы железа, и сырой, земляной запах траншей и котлованов, и словно хранящий в себе шелесты леса запах недавно распиленных досок и медово-золотистых ошкуренных бревен с натеками упрятанной в затвердело-сизую корочку смолы. Все это были запахи огромной стройки, и прежде чем войти в редакцию, разместившуюся в одноэтажном домишке на краю самого крайнего городского квартала, он делал крюк по степи, разгоняя остатки сна в голове и радуясь, что снова выиграл время и обогнал солнце, и раньше, чем напрягутся мускулы грандиозной стройки, он уже займет свою позицию, свой окопчик — над белым листом, пододвинув к себе с одной стороны синий литровый термос с крепко заваренным чаем, а с другой — бронзированную пепельницу с въевшимися между завитками на донышке остатками вчерашнего пепла.
Читать дальше