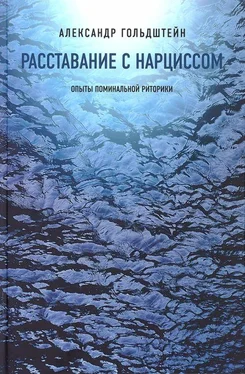Успокойтесь: вы не сделали ничего. Это время такое. Избраны, званы и призваны нынче решительно все. Потому что давно уже понял литературный и всякий прочий начальник исчезнувших ценностей великую тайну любви и коварства — любви, которая убивает; и он присосался к тебе, призывая расслабиться и получить удовольствие, внушая интимнейшим шепотом, что вся борьба позади, а теперь он сугубо готов к лобызаниям. «Ведь были ж схватки боевые», — неуверенно бормочете вы, испытывая головокружение от объятий. «Да говорят еще какие, — охотно соглашается он, поправляя подушку. — Но это было раньше, в плюсквамперфектум, до постисторического материализма». И до чего же он прав, как тяжело пожатье ласковой его десницы (я умираю, донна Анна?). Поэтому литература существования лучше литературы борьбы, вернее, она включает последнюю как меньших размеров матрешку — в том случае, если в младшенькую не забыли вложить мозги.
И она много лучше литературы «новой искренности» (или «новой чувствительности»), этого чахлого детища истощенных чресел русского постмодерна. Зачем она вообще сдалась, «новая искренность», если и за старую Джон Шейд справедливо снижал оценки студентам? А нужна она, скажут ее апологеты, потому, что без нее как-то не получается, не вытанцовывается, не выходит; без нее, кто бы мог подумать, не проговариваются какие-то важные вещи, потребность в высказывании которых до сих пор не угасла. Эта новая чувствительность, продолжат они, нужна еще и затем, что в мире опять накопилось очень много одиночества, и хотелось бы раздвинуть его с помощью слова — нагого, исповедального и простого, содравшего с себя привычные наслоения литусловностей, в том числе постмодерных, скажут они. Кому адресовано это слово? По всей вероятности, тем, кому оно действительно нужно, тем, кто устал от звонких, но необеспеченых слов, кто более заинтересован в «послании», нежели в «литературе». О, разумеется, эти люди не настолько наивны, чтобы не понимать, что в последней искренности и простоте литературы ничуть не меньше, чем в любом проявлении художества, что это тоже словесность, осанка и даже поза. Но в этой осанке, предполагающей говорение из одиночества, персональную, а не персонажную речь, есть сегодня признаки подлинности или предвестия их, скажут апологеты. Странное словосочетание «новая искренность» выглядит оксюмороном, продолжают те, кто его придумал. Разве может чувство быть новым или старым, разве оно всегда не одно и то же? Однако в такой неуклюжести кроется несомненная правда, не боящаяся противоречий и выносящая их наружу, дабы можно было острее почувствовать конфликтность явления. Искренность эта потому называется новой, что старой уже быть не может, ибо старая трепыхалась еще до смерти литературы. Иными словами: новая чувствительность отлично сознает свою невозможность. Новая речь (не следует путать ее с новоречью), звучащая после окончания всех слов и речей, знает, что она невозможна и обречена на молчание. И в диалектике немоты и столь же неизбежного и абсурдного ее преодоления прячется основной инстинкт современного слова, говорят сторонники этой литературы. Того самого слова, которое якобы прошло через смерть, возродилось и, отряхнув прах иронии, приготовило себя к новой участи — быть полпредом чувствительных созерцаний, не стыдящихся слабости, в этой слабости находящих ловкую силу: «Лев Семеныч, будь мужчиной, не отлынивай от слез» (Кибиров).
Литература существования отрицает такую смерть и такое возрождение слова фактом своей жизни. Она за уши вытягивает словесность из промежутка. Отвергает жеманство, чахоточное смиренномудрие и бесполую любовь новой искренности. Которая, как протестантская девственница из благотворительного общества, заставляет себя полюбить добродетель, понимая, что ей непременно воздастся, но сперва необходимо облобызать грязное и недужное. Новая искренность, поджав постные губы, упивается своей посмертной решимостью спуститься в грязь, горести и болезни, вновь легализовать неприличные темы «заброшенности» и страдания, стать их тишайшим, опущенным долу, единственным выразителем. Она хочет скромнехонько застолбить за собой право стать эмиссаром современного несчастного сознания, которое во всех словах давно разуверилось, кроме вот этого, искреннего, потупленного, одинокого.
Литература существования не желает иметь дела с кокетством расчетливо добродетельных девственниц. Культура и слово для них — продолжение буржуазной гостиной. Как неприятна их драматически-ласковая серьезность вокруг разговоров о жизни и смерти, но прежде всего о своих психологических ощущениях; эта мерцающая ирония, ласково маскирующая самовлюбленность и негасимое сознание собственной значительности; бескорыстная тяга к душевному благополучию, частью которого становится их уютная литпродукция. Перебравшись в том числе и на Ближний Восток, они задумчиво применяются к навязшей в зубах апокалиптике этого места, скорбят об утрате национальной энергии, завоеванных территорий и спокойно пьют кофе внутри портативного «хаоса», прописав его в обжитых комфортабельных комнатах. Иногда они называют декадансом боязнь рискнуть, взбунтоваться. Но это не декаданс, а трусость. Их протухшее достоинство напоминает прошлогоднюю невинность. Они родились, чтобы сразу состариться, и пусть они хоронят своих мертвецов.
Читать дальше