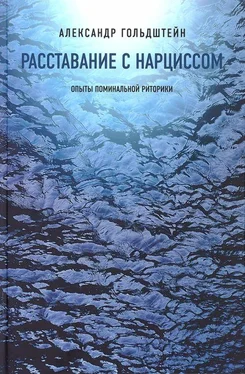Белиберда, детский всхлип одиночки, никчемного существа, будто нарочно придуманного декадентом с бульвара, всхлип, графомански продленный на сотнях страниц, повесть об ужасе жизни — она заведомо не могла заинтересовать цивилизованного читателя, которому нужны стройность повествования, фабула, стиль, язык. Но свет не сошелся клином на цивилизованном читателе и есть по меньшей мере две другие категории, которым дневник бы пришелся по вкусу. К первой, по словам Блока, относятся те, кто принимают искренность и темперамент за красоту, считают верхом поэзии стихотворения Надсона, плохо говорят по-русски: они могли бы принять эти бестолковые записки, в которых однако проглядывал невымышленный «древний ужас», за настоящую книгу. Другая же категория объединяет людей (если таких людей что-либо может объединить), которые, по прошествии семидесяти пяти лет со дня смерти Блока, понимают, что русская литература опять угодила в глубокую яму промежутка, только характер его нынче тотален: старое избыло свои сроки, новому еще предстоит укрепить тихий голос. Этот кризис неизмеримо серьезней того, о котором когда-то писал Тынянов; в то время он был вызван несколько преувеличенным докторами недугом больного, сегодня пациента уже унесло. Нет, он не умер, это было бы для него слишком торжественно и мемориально, он обитает по ту сторону, он там постыдно играет с собой, уставившись в одну точку.
Это и есть промежуток: ничейная полоса между непройденной смертью и еще не обретенной новой жизнью. Жалкая теплая промежность. Иждивенческая, затхлая. Потому что:
Почти невозможно писать.
Почти невозможно читать.
Я имею в виду главным образом так называемую художественную литературу, литературу вымысла. Ту, против которой бессознательно был направлен мутный дневник южнорусской провинциалки. Этот дневник и ему подобные «документы» еще имеет шанс прозвучать в сегодняшней выморочной констелляции ценностей. Попросту говоря, речь в тысячный раз идет о литературе подлинности или существования, за которой стоит человек со своею личной историей. Другие слова ведь уже не проникают в сознание, засыхают на фильтре, выметываются вон. Перспектива соприкоснуться с романом повергает в кому и ступор, а история, мемуар, свободное размышление, повесть судьбы, анархическая проза любви и отчаяния, подрывная листовка, прокламация заговорщика, манифест художника и поэта вроде бы покуда годятся, их покамест не удалось скомпрометировать. Не полностью удалось, скажем во избежание. Только в границах означенных жанров еще можно говорить о жизни и смерти без того, чтобы пеленать эти темы в унизительный кокон якобы возвышающей нас художественности. Во имя чего автор должен прятать от нас свое лицо, во имя какой высшей цели должны мы вникать в сконструированные им беллетристические средостения? Нет такой цели и никогда не было. Время повальной инфляции требует прямоты слова и жеста, умения все договаривать до конца, не прибегая к исчерпавшим срок своей годности предохранительным оболочкам вымысла. Исчезающий век демистифицировал множество замутненных прежде объектов, систем и понятий, не разрешив им более скрывать свои жалкие тайны. И только художественная литература укутывает себя в непроницаемые покровы, не позволяя просочиться сквозь них значениям, не охваченным со всех сторон омертвевшей условной повествовательностью. Такая словесность все еще культивирует преграды между автором и текстом, настаивая (несмотря на всю свою «иронию») на сакральности этих перегородок, чтобы никто не осмелился расколдовать ее никчемную мнимость. А ведь так сильна усталость от околичностей, усталость от лжи, от камня вместо хлеба. Пусть этот камень считается драгоценным — он все равно несъедобен.
Когда Самюэл Ричардсон дописывал «Клариссу Гарлоу», рассказывал Шкловский, а он был свидетелем всех мировых литсобытий, то в соседней комнате без сна и без отдыха, не пимши-не емши маялся многолюдный читатель, обсуждая, прикончит ли автор свою героиню или сбережет ее для двора и народа. Было создано нечто вроде комитета национального спасения, кто-то грозился убить сочинителя, потому как невеста читателя была опечалена судьбою Клариссы, — в общем, дым стоял коромыслом и чувствительность застила горизонт, но по прошествии нескольких неспокойных часов Ричардсон, опустив глаза долу, вышел из писчей каморки и, не отвечая на расспросы, поднял руку вверх. «Она там!» — произнес он, и все вокруг смолкло.
Читать дальше