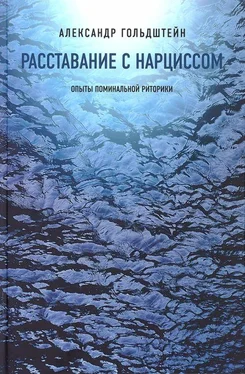Заинтересованность в романе давно пережита, писал там же, следующей красной строкою Виктор Борисович. Организм читателя, говорил он, вакцинизирован вымыслом, любопытство к сюжету, к судьбе персонажа упало настолько, что Горький печатает «Самгина» сразу в двух журналах, причем в одном идет начало романа, а в другом — конец. И «Леф» отрицает современную прозу: она не существует, а только печатается.
Здесь я, дабы почтить память жанра вставанием, должен покаянно обратиться к учителю, которого в глаза не видел. Уж ты извини, учитель, что я так свободно греюсь у костра твоих давних находок, по привычке выдавая воровство за цитату. И костра никакого в нашем пекле не нужно, и прежде чем трижды проблеет тотемическая овца, успеваешь не раз поменять убеждения. Стыдно признаться, но я, постаревший еженедельный халтурщик — в греческом и татарском значении слова, а это когда работаешь спустя короткие рукава, да еще не на своем месте, — я испытываю, прости Господи, непристойное подобье азарта, разбирая в преддверии обязаловки твою клинопись, сдувая с глины и камня песок. Ты ведь знаешь лучше других, что эта жалоба — жанровая, и Ярославна рыдала в Путивле, уж конечно, не для того, чтобы слезой оросить «ландшафт сострадания» (зегзица? кто такая зегзица?), но в целях торможения действия, и ты видел птиц, собравшихся в стаи на отмелях многих морей, кроме вот этого, что сейчас у меня под окном, которое море ты, кажется, тоже под старость увидел, находясь на другом побережье. При чем тут какие-то птицы? Внизу, в ресторане с идишской кухней, еврейские старики громко общаются на еврейском жаргоне, заглушаемом восклицаниями арабских уборщиков, хамсин переломился, как дендистская трость с набалдашником, и сегодня доброжелатели тебе могут сказать, что прогноз твой об утрате интереса к роману, об окончании чувства к герою и падении вымысла подтвердился и не подтвердился, как все остальные прогнозы: конец света ведь тоже происходит точно по графику, но после него продолжают жить с минимальной поправкой на невозможность существования.
Вероятно, скажут все те же доброжелатели, прав оказался Оскар Уайльд: приложившись к цветочку в петлице, словно к ампуле с ядом разведчика из цикуты философа, он пророчествовал в ритмических афоризмах, не вставая с турецкой гашишной какой-нибудь оттоманки (трогательная поза трудяги-поденщика, литпролетария), воскрешение лжи и бунт занимательности, которая нападающим лесом захлестнет замок правдоподобия с его окаменевшей опорой на факт. В сущности, он возвещал вечное свойство словесности, а солнце, если ему приказать взойти на востоке, не замедлит выполнить повеление — так говорил птица Хлебников в режиме певчей цитаты. И то, что впоследствии было названо «постмодерном» и что было предсказано аптечным уайльдовским остроумием, заявило себя как восстание вымысла, сюжетной болтливости в оправе новейших восточных побасенок и современных индоарийских сказаний. А вернее, снисходительно признают твои оппоненты, учитель, в литературе «факт» просто сопутствует «вымыслу», вот ведь и Оскару под занавес жизни пришлось сочинять для себя и пустого партера неложную «Исповедь» («неложность» ее, разумеется, эстетического, лукавого свойства — она от лукавого).
Но я-то имею в виду иное — литературу существования. Другой литературы сегодня нет: вся остальная только печатается.
Лидия Гинзбург, знавшая толк в этих предметах, писала о том, что современное сознание уже не воспринимает иллюзию объективного мира традиционной художественной прозы, нам постыла, справедливо писала она, тяжелая трехмерность, видимость второй действительности, средостением встающей между писателем и читателем, но почему же, спрашивала она, не устарел прямой разговор, единственный род литературы, который еще возможен, да потому что, она отвечала, не устаревая продолжается жизнь, и тем самым продолжается ее осознание, истолкование, а романы и повести можно уже не писать. Они способны развлечь и увлечь, но им недостает безоглядной доверительности личного послания, в них нет того драматизма, который еще худо-бедно сопутствует форме прямого разговора и почти перестал ощущаться в традиционной (или нетрадиционной) словесности.
Всемирный успех мистико-духовидческой серии Кастанеды был обусловлен и даже предопределен гениально найденной формой личной истории, непосредственно, минуя беллетристические перегородки, обращенной к читателю, который не устоял перед этим «поиском истины», растянувшимся на десятилетия и девять томов. Придумал Кастанеда своего Дон Хуана или все испытал по написанному — не имеет никакого значения: дело решил этос духовно-приключенческого бестселлера, без патетики повествующего о страдальческом опыте жизни по краям бытия и сознания, на узких полях фолианта всеподавляющей Рациональности, но вблизи абсолютного Духа, где безнадежно истаивает, как робкие карандашные маргиналии, все наносное, случайное, претенциозное. А что дверь в иные миры открывается нетвердым ключом наркотических медитаций, так это на совести автора, привыкшего якобы расширять сознание с помощью экзотической дряни: как тонко подметил заслуженный советский правовед, полиглот и подпольный мыслитель Иосиф Левин, только маловеры нуждаются в диэтиламиде лизергиновой кислоты (LSD) или тренировке дыхания, чтобы убедиться в реальности Духа. Для философа достаточно простого размышления. Обходиться без этих средств — это его профессиональная добросовестность. Что тут можно сказать?
Читать дальше