Дракон, Котелок, — едва хрипят половицы,
которые мелют сосновую смолку в ступе.
Гарцует рожок, горяча карамельных дешевок,
ждущих, когда гобой склонится к ним
клювом цапли.
Загулявший подросток в страхе расправил простыни,
где обливались потом шинкованные осьмушки.
Словно вдоль насыпи пляжа, тянула чайка.
Мальчик — со сна, и его качает, как пароходный дым.
Праздничная круговерть разымает слаще и слаще,
но еще не пора нести колонну к реке.
Ребенок смотрит на круп, сливаясь в одно с конем.
Жабы к нему обращаются, словно к царю растений.
Сжав руку, его в слезах ведут к оркестровому смерчу.
А смерч застывает глыбой, где мальчик тянет за хвост
плутонову саламандру, чтобы потом закрыть
глаза ей речными камнями, просверленной галькой.
Посмотри, посмотри — но кто-то ставит подножку;
Потрогай, потрогай — но в горле стоят рыданья.
Мальчик огреб подзатыльник
за вскрытые вены зеркала
и рвется дать сдачи, но руки связаны
локоном смеха.
Высясь свечой в повозке, Валенсуэла
опять расставляет на место промокшие номера.
Крылатая маска уносит его
к компостельским слезинкам
и бушует в крови звучащим исподволь ритмом.
Он открывает слипающиеся глаза,
кожа исходит потом, чтобы не ссохнуться ящерицей,
глядящей из-под камней на упавшую с неба вечность
и разбирающей камни со следом коня в столбняке.
Свеча в повозке будила мрамор подушек
и руку, манящую из круговерти на облако.
Он выпал из сна в круговерть, а оттуда —
на берег,
где царская нутрия мыла свивальники фараонов.
Промокшие номера — не отсылка к пифагорейцам,
они поспешают к порталу, а получают плюхи.
Как только маску втоптали, реке наступил конец.
Нагая циркачка в седле истекала кровью.
Коню одолжили посох, маисовый стебель в колючках,
а он отбивался, как будто расколотая гитара —
это воскресное утро паяца в темно-зеленом
со старой китайской вазы,
рассказанной эквилибристкой.
Здесь умирающему не надо быть музыкантом,
а тени — сверяться с ритмом, чтобы сойти в Аид.
Завязь уже несла в себе меру бриза,
тень убегала, число было вестью света.
Утро лощило тафту на груди у Валенсуэлы.
Чета вплывала в повозке, даря пифагоровы знаки,
там же качалась свеча на волнах сновиденья,
которыми правил учтивый трезубец гаванской флейты.
Нездешняя пара царила в здешних пространствах,
чета за четой выплывали из сна,
вступая в Орплид {21} 21 Орплид — сказочная земля из стихотворения немецкого романтика Эдуарда Мёрике (1804–1875), вошедшего в его роман «Художник Нольтен» (1832), стихи положены позднее на музыку австрийским композитором Хуго Вольфом (1860–1903); к этому образу рая Лесама несколько раз возвращался в лирике и прозе.
узнаванья.
Их богатство — окурки да опаль, плевки да пушинки.
Лишь прикоснись — и вспухнет желвак оплеухи.
После стольких часов никто
не спешил в круговерть.
Танцевальный зал был отводком иного мира.
Танец — это слиянье с единством живых и мертвых.
Танцор разменивает фигуры
с золотовласым Радамантом {22} 22 Радамант — в греческой мифологии судья царства мертвых.
.
На закорках небесной медведицы — целое
созвездье волынок,
но петлю из тафты обкорнала гаванская флейта.
И снова та же повозка, где царственно застывший
мулат
приветствует над пепелищем оттаявший портик
Мария Самбрано {23} 23 Мария Самбрано (1904–1991) — испанский философ-эссеист; преобладающую часть жизни, после победы франкистов в Испании, провела в изгнании в Латинской Америке и Европе. В 1936 г. посетила Кубу, где подружилась с Лесамой Лимой; впоследствии написала о нем несколько эссе, переписывалась с ним и его женой (их переписка издана в Испании в 2006 г.); Арасели (?-1974) — ее младшая сестра.
Мария стала такой бестелесной,
что разом видишь ее
в Швейцарии, в Риме, в Гаване.
Вместе с Арасели
ей не страшен ни зной, ни холод.
С ней повсюду кошки,
оскопленные, распаленные,
пружинистые привиденья Бодлера {24} 24 …Пружинистые привиденья Бодлера… — О пружинистой спине животного Бодлер упоминает в стихотворении «Кошка» («Цветы зла», XXXIV). Кошки — в огромном количестве — постоянно сопровождали Марию Самбрано во всех ее переездах.
,
и до того неотступно смотрят,
что смущенной Марии приходится брать перо.
Я слышал, как она разговаривает со всеми —
от Платона до Гуссерля —
в самые разные дни, разделенные горными пиками,
и заканчивает мексиканским корридо {25} 25 Корридо — форма традиционной песенной лирики, популярная в Мексике.
.
Ионийские гребешки Средиземноморья,
кошки с их излюбленным словом «как»,
соединяющим, по верованиям египтян,
неразрывной метафорой всё на свете,
что-то шептали ей на ухо,
а тем временем Арасели выкладывала магический круг
из двенадцати кошек, двенадцати знаков зодиака,
ждущих своей минуты,
чтобы пропеть псалом из египетской «Книги мертвых» {26} 26 «Книга мертвых» — сборник гимнов и религиозных текстов Древнего Египта.
.
И Мария теперь для меня
вроде сивиллы, —
к ней подходишь с оглядкой,
ожидая услышать голос земных глубин
и небес эмпирея,
которые много выше зримого неба.
Переживая, предчувствуя ее облачное прибытье,
ты как будто вздымаешь чашу вина
и окунаешься в животворную гущу.
Она снова может уехать,
рука об руку с Арасели,
но всегда возвратится прыгучим зайчиком света.
Читать дальше
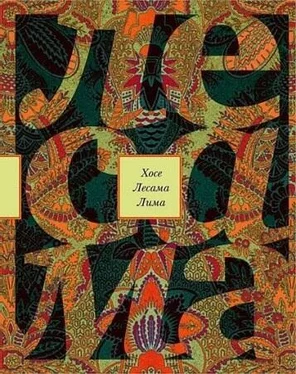

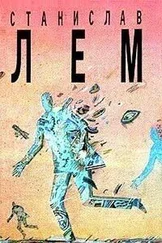


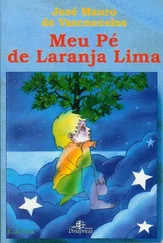


![Холли Блэк - Десятина [= Зачарованная] [litres]](/books/399985/holli-blek-desyatina-zacharovannaya-litres-thumb.webp)


