Как это растождествленное с простым крюком железо доносит образы, которые под силу и под стать разве что новейшей живописи? Одна из подвесок напоминает арлекина Кандинского, другая — присосавшуюся к стене голотурию, третья похожа на цветы Пауля Клее. Может быть, одна из задач современного художественного воображения — как раз в том, чтобы через внешнее подобие прийти к органичной форме средствами простого ремесла, которое начинается с отказа от непомерной гордыни? Пусть сегодняшний художник внимательнее вглядится в гибкое изящество и самозабвенную жертвенность этих изделий колониальной эпохи. Их формы и ритмы, для современной живописи, уверен, бесценные, заслуживают более счастливого и долговечного соседства.
23 марта 1950
99. НЛО, или Буколический обитатель древней Ниневии
С идиллических и целомудренных времен кометы Галлея небесный народец умерил свои запросы. Да, наши сограждане должной чести и чистоты еще и сегодня украшают блюда зажженными свечами, точно так же, как путешественники по невероятным бразильским землям уверяют, будто слышали гул, исходящий из их мифологических недр (хвост прежнего огня). Но с тех пор, как вышнее пространство очеловечено и разбито на садики, хозяин каждого из которых может похваляться собственной открывающейся перед ним воздушной перспективой, небо как главный герой перешло в категорию чего-то относительного. Мы теперь равно далеки от величественных озарений мистиков и от неба светил и эмпирея, преодолевшего представления греков о небесном своде как своего рода крыше, начинающейся там, куда достигает взгляд. И все же, в развитие образа горней завесы, изборожденной золотым скарабеем, — образа, сегодня устаревшего, но бесконечно дорогого современникам кометы Галлея, европейским символистам, — мы теперь как будто опять возвращаемся к пониманию, что теогония и магия, глубинное и сверхъестественное со всех сторон окружают материальный мир, который в каждый исторический период открывается человеку на скрижалях познания. Заговорили о неких дисках живого вещества, проникнутого дыханием или духом, хранящего межпланетные тайны и изъеденного отчаянием от невозможности связать между собой многочисленные и разноязыкие миры. Новая эра, новая эра! — восклицают наши современники, намереваясь путешествовать с планеты на планету наподобие ослика, вышагивающего вокруг водокачки. Будто во времена вавилонян, поднимавшихся на крыши как в обсерватории, небо полно намеков, которые подталкивают наших ближних иронически подмигивать или… пристальнее всматриваться в высь. Мы сегодня посмеиваемся над Анаксимандром, в эпоху ионийской физики толковавшем о ветре, который будто бы скрывается в тучах и расщепляет их, рождая молнию, и тем не менее убеждены: любая эпоха, какой плодоносной и несокрушимой она себя ни выставляй, с неизбежностью накапливает в себе излишек смешного. Над ним легко иронизировать и смеяться последующим поколениям, но, вместе с тем, он свидетельствует об избытке сил, готовых сокрушить какие бы то ни было границы и рамки. Похоже, наша эпоха решила продемонстрировать подобные богатства, щедро распахнув свои переполненные житницы.
Быть может, вслед за сверхсложным периодом физики, расщепляющей незримые ядерные цепочки, нам захотелось вернуться к незамутненному простодушию ионийцев. Туда, где Анаксимандр рассказывал о колесничных ободьях, несущихся по кругу. О прорывающемся огне, который движет эти колеса по круговым орбитам. О морских испарениях, раскалывающих огненные шары, превращая их в кольца. Объяснения за объяснениями сменяются в голове современного человека, прогуливающегося по крыше, как буколический обитатель древней Ниневии.
25 марта 1950
Они были опубликованы, соответственно, в Мехико в 1994 и в Мадриде в 2000 году, позднее переиздавались.
Роман Лесамы (опубликован в Гаване в 1966 г., в редакции Хулио Кортасара — в Мехико в 1968-м, в критическом издании под наблюдением Синтио Витьера — в Мадриде в 1988-м и в Гаване в 1991-м, переведен на английский, французский, итальянский, немецкий языки) носит итальянское название, отсылая к заключительной части «Божественной Комедии» Данте; второй роман автора, который остался незавершенным, должен был, тоже по-итальянски, называться «Inferno» (напечатан в Гаване в 1977 г., уже после смерти автора, под заглавием — по имени главного героя — «Оппиано Ликарио», его критическое издание вышло в Мадриде в 1989-м). Добавлю, что «Paradiso» — о чем нередко забывают — появился в самый разгар международного «бума» латиноамериканского романа, за год до «Ста лет одиночества», однако публиковался отдельными главами еще в конце 1940-х годов и принадлежит, скорее, к предшественникам «бума», его источникам.
Читать дальше
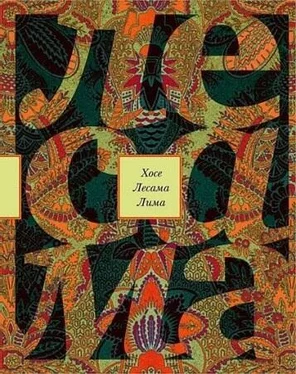
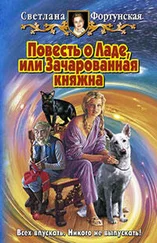
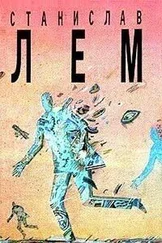
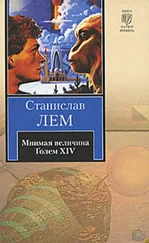
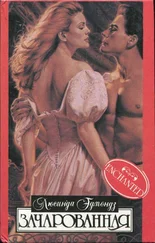
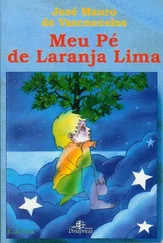


![Холли Блэк - Десятина [= Зачарованная] [litres]](/books/399985/holli-blek-desyatina-zacharovannaya-litres-thumb.webp)


